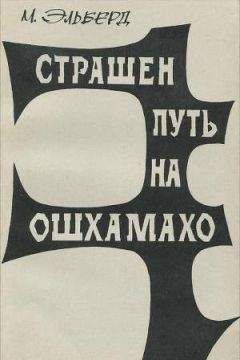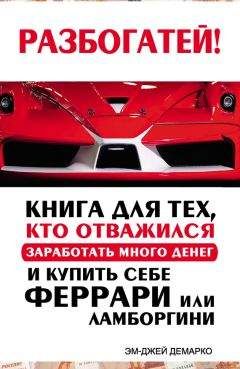Наконец Алигоко вышел из воды и стал одеваться. Зариф попросил его отвернуться: был невероятно стыдлив. Шогенуков презрительно осклабился и повернулся спиной. Он знал, что все громадное тело Зарифа покрыто густыми черными волосами.
Князь оделся. Услышав, как его уорк, вкусно урча, плюхнулся в теплую речку, подошел и сел на тот же камень, на котором сидел Зариф.
— Успеть бы сегодня перевалить в Баксанское ущелье, — сказал Алигоко. — Тогда завтра мы сможем обогнуть гору Чегет и подняться на перевал Донгуз-Орун.
— Моя лошадь повредила копыто. Медленно ехать придется, — отозвался уорк.
— Я должен ехать быстро! — капризно заявил князь. — Что, если за нами гонятся?
— А как же я? Ведь я — рукоять твоей сабли и дуга твоего лука!
Князь насмешливо сощурился:
— Что толку от твоих красивых слов, если нету на тебе штанов?
— Уо, князь! Я вижу, целое и половина друг друга уже не узнают? Кстати, только что и на тебе штанов не было.
— Ты, я вижу, слишком поумнел с тех пор, как получил по темени от маленького князя Хатажукова. — Алигоко не мог удержаться от того, чтобы не дразнить приспешника, хотя и помнил поговорку: «Наступишь собаке на хвост — укусит».
Ответ Зарифа был убийственно неожиданным. Хлопнув широкой ладонью по воде, уорк рявкнул со злобой:
— А он и не князь вовсе!
Алигоко опешил:
— Как… что ты ска… п-повтори!
— И повторю. Этот твой Кубати — не сын Хатажукова. Вот!
— А чей же сын?
— Рабыни — унаутки. И отец его был унаут.
— Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?! — визгливо заорал князь.
Зариф пополоскал горло и выплюнул воду изо рта.
— Мне никто не говорил, я сам услышал. Когда твои наемники шарили у Кургоко в доме — панцирь воровали, я лежал в дальнем углу сада и ждал их. Вот!
— Что «вот»? Говори дальше!
— В сад пришла старуха, странная такая. Орехи подбирала и сама с собой разговаривала. — Зариф сморщил свою образину и запищал, подделываясь под старушечий голос:
— Хадыжа все знает, все-е-е знает. Никто не знает того, что Хадыжа знает. Правильно я говорила, что мальчик лучше всех. Ни один княжеский сын и седьмой его доли не стоит! Славненький Кубати! Все думают, что ты сын Кургоко, а ведь тебя последняя унаутка родила! Жена Кургоко от родов скончалась, но ведь и ребеночек ее тоже помер! А кто, как не хитрая Хадыжа да еще одна женщина, принесли и подложили другого ребеночка, в самой бедной хижине рожденного? Отец его, тоже унаут, еще раньше…
— Что еще раньше?
— Не знаю. Ушла старуха. И орехи унесла.
— Подавиться бы тебе этими орехами! Больше ничего не слышал?
— Нет. Отвернись, я вылезать буду.
— Подожди! Почему раньше ничего не рассказывал?
— А зачем?
— Дурак!
— Клянусь этим железом, князь, я всегда служил тебе, как верный пес, а вместо щедрого вознаграждения…
— Дважды дурак! Теперь не жди никакого вознаграждения. Коровью лепешку на твою дурацкую голову!
— Отвернись! Дай мне одеться! — заревел уорк.
В глазах Зарифа Алигоко прочел нешуточную угрозу благополучию своего дальнейшего путешествия и похолодел от страха. Этот буйвол может покалечить или убить совсем, а то, что ограбит, бросит в горах без коня и вернется в Кабарду, — это уж точно. Однако князь быстро сумел взять себя в руки и выхватил пистолет. Зариф охнул и погрузился с головой в воду. Нет, убивать Зарифа князь не собирался (он еще ни одного человека в жизни не убил); прогремел выстрел — и между камней забилась в предсмертных судорогах лошадь Зарифа. Когда уорк вынырнул, он увидел, как Шогенуков, подхватив его, Зарифа, одежду, бежит к своему, коню. Зариф еще не успел отдышаться, а князь был уже в седле.
— Говоришь, одеться, скотская морда?! Нет, не скоро ты теперь оденешься!
Уорк, преданный столь бессовестным образом, горестно завопил, словно медведь, попавший в капкан. Алигоко издевательски помахал ему рукой и неспешной рысцой отправился в путь. Вслед князю неслись проклятья. Зариф даже выскочил из теплой купели, пробежал несколько шагов, но вдруг непонятный ужас охватил его душу, и он вернулся и снова сел в воду. Тут он сразу успокоился и даже заулыбался. Потом плюнул в ту сторону, куда ускакал князь, и прошептал:
— Все равно он меня не увидел. — Бедняга решил, что теперь самое для него главное — это чтоб ни одна живая душа его не видела.
Он важно покивал толовой и, еле шевеля губами, спел песенку, слышанную от бабушки еще в детстве:
Кошке мясо не досталось,
Но у кошки гордый вид:
Я б его и есть не стала —
Очень уж оно смердит.
После этого в голове у Зарифа что-то тихонько скрипнуло, и он начисто забыл человеческую речь.
* * *
Сведения Нартшу оказались верными. «Шакальи следы» стали попадаться в тот же день.
Еще до первого привала они встретили пастуха, гнавшего небольшое стадо коров с высокогорных пастбищ в одно из нижних поселений. Вчера перед заходом, солнца он видел издали двух всадников, направлявшихся в верховья. — Думаю, один из них был Алигоко Цащха, — уверенно заявил пастух.
— Почему так думаешь? — спросил Канболет..
— Так ведь я из тех, у кого утроба всегда пуста, зато уши полны слухов, а рот — новостей, — усмехнулся пастух. — А слухи — это такие птички, которые летают быстрее ласточек. Татар побили — мы обратно со скотом возвращаемся. Изменник Алигоко с татарами не сбежал и в плен не попал — куда ему еще деваться? Он это был. Больше некому. Перевал в Сонэ[185] отсюда недалек — всего три дневных перехода.
— Для кого три, а для кого два, — недовольно проворчал абрек.
— Ты прав! — согласился Тузаров. — Надо поторапливаться.
Дорога проходила по сказочно красивым местам. Извивалась причудливо по боковым склонам, ныряла в лесистые урочища, вырывалась на сенокосные пологие холмы, где летом вставали травы по грудь человеку; пересекала мелкие ручьи, поросшие по берегам непролазными зарослями облепихи, шиповника и барбариса; карабкалась по каменистым уступам, под которыми утробно ворчала Малка. Дорога вела туда, где бирюзовый свод небес опирался на бесконечную зубчатую стену Главного Кавказского хребта, а перед стеной могуче Возвышался двухкупольной сторожевой башней неприступный Ошхамахо, или, на языке Куанча, Мингитау.
Предзакатное солнце уже тронуло снега Эльбруса червонной позолотой, когда всадники приближались к теплым источникам нартсано.
— Скажи, Нартшу, — нарушил долгое путевое молчание Кубати, — а как там этот старый шоген?