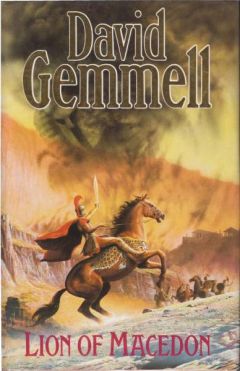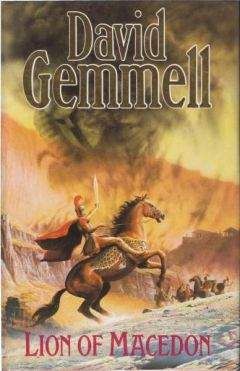Гриллус остался стоять на месте с покрасневшим лицом.
— Почему ты презираешь меня, отец? — спросил он.
Слова заставили Афинянина содрогнуться.
— Я не презираю тебя, Гриллус. Мне жаль, что ты так думаешь, — Ксенофонт встал и приблизился к мальчику с распростертыми руками, готовый обнять его.
— Нет, не трожь меня! — вскричал Гриллус, отстраняясь назад. — Я ничего от тебя не хочу.
Развернувшись, он выбежал через двор на главную улицу. Ксенофонт вздохнул. Он с таким трудом бился над ребенком, старательно обучая его, пытаясь внушить Гриллусу мысли о чести, верности, долге и отваге. Но все без толку. И Ксенофонт наблюдал, как тот рос, и видел в нем зарождение высокомерия и жестокости, тщеславия и лжи.
— Нет, я не презираю тебя, — прошептал он. — Но и любить тебя я тоже не могу.
Он собирался пойти в дом, как вдруг увидел старика, стоявшего у песчаной площадки и глядевшего на солдат. По обычаю, хорошие манеры побудили Ксенофонта заговорить с ним, и он направился к гостю, пересекая двор.
— Могу ли я предложить тебе освежиться? — спросил он.
Старик посмотрел в лицо военачальника.
— Ты не помнишь меня? — спросил он, поднимая обрубок правой руки.
— Пасиан? Гера Всеблагая! Я думал, ты умер!
— Должен был. Иногда я желаю этого. Они отрезали мне правую руку, командир, оставив меня истекать кровью до смерти. Но я добрался домой. Шестнадцать лет ушло у меня на это, — Пасиан улыбнулся, показывая сломаные, сгнившие зубы.
— Домой, — снова заговорил он хриплым голосом. — Мы расчистили свой путь от персов и укрепились за кругом из валунов. Мы видели Агесилая и главные силы и думали, что они придут нам на выручку. Но они не пришли. В конце концов, мы были всего лишь скиритаями. Мы умирали один за другим. Я убил одиннадцать человек в тот день. Персы были не очень любезны ко мне, Ксенофонт; они отняли у меня руку. Я постарался остановить кровотечение и набрел на крестьянина, который обработал рану кипящим отваром.
— Пройди внутрь, друг мой. Дай мне разделить с тобой хлеб и вино.
— Нет, благодарю тебя. Я пришел только увидеть мальчишку, посмотреть, как он победит.
— Леонида?
— Нет. Другого парня — Савру. Он не спартанец, Ксенофонт, и пусть богам будет стыдно за это.
— Откуда ты знаешь его? Он ведь еще не родился, когда ты ушел в Персию.
— Я встретил его по пути, командир… когда был уже почти дома. Знаешь, я не представлял, каким старым стал, пока не увидел холмы своего детства. Все эти годы я боролся ради того, чтобы добраться домой — и вот добрался, дряхлый калека со сломанной тележкой. Я позвал его на помощь, и он пришел. Отвел меня в дом моего сына. И ни разу не обмолвился, что из-за меня проиграл Большой Забег. Можешь представить себе?
— Он пришел последним, насколько я знаю, — сказал Ксенофонт.
— Он шел первым, до самого города. И мне нечего дать ему за это. Ни вещей. Ни монет. Но я уплачу свой долг, взыскав другой. Дважды я спасал тебе жизнь. Вернешь ли ты мне этот долг?
— Ты же знаешь, что верну, — так же, как, надеюсь, понимаешь, что если бы я был в Персии с Агесилаем, то пришел бы тогда за тобой.
Пасиан кивнул: — Я не сомневаюсь в этом, командир. Как я понимаю, мальчишка не чистокровный, с тощим кошельком и с еще меньшей поддержкой. Помоги ему, Ксенофонт.
— Помогу, обещаю тебе.
Пасиан улыбнулся и пошел к выходу, остановившись, чтобы в последний раз взглянуть на песок.
— Мне понравился этот бой, — сказал он через плечо. — Приятно увидеть спартанцев сконфуженными.
***
Парменион выбежал из ворот на пустынную вечернюю улицу. Он не чувствовал ни палящего солнца у себя на коже, ни боли от синяков и ссадин. Он не видел домов, когда пробегал мимо них, не слышал лая собак, лязгавших челюстями у самых пяток.
Его голова полнилась мучительным воплем, и все, что он мог видеть, — это лишь лицо матери, стоявшее перед его мысленным взором, — теплое и приветливое, спокойное и понимающее.
Она умирала.
Умирала…
Это слово молотом обрушивалось на него снова и снова, и у него темнело в глазах, но он продолжал бежать. Он узнал то, о чем всегда знал. Когда ее красивое прежде лицо осунулось, когда ребра стали выпирать, как у скелета, а глаза потускнели. И все другие знаки крови и боли. Но он не мог принять этого знания, и обращал глаза и мысли прочь.
Он вышел на Выходную Улицу и срезал через рыночную площадь, врезавшись в тучного торговца и сбив того с ног. Проклятия зазвучали ему вдогон.
Вход в его дом был заполнен соседями, стоявшими в молчании. Он протолкался через них и обнаружил Рею, сидевшую рядом с ложем. Врач, Астион, стоял в маленьком внутреннем дворике спиной к комнате. Парменион встал в дверях. Сердце его колотилось, когда Рея обернулась к нему.
— Она ушла, — произнесла женщина, встав и подойдя к Пармениону, обняв его руками. — Ей больше не больно.
Слезы покатились по щекам Пармениона, едва он посмотрел на истощенное тело на кровати.
— Она не дождалась меня, — прошептал он.
Рея на миг сжалась от боли, затем отошла к двери, вежливо выпроводив соседей и друзей и закрыв за ними дверь. Потом она вернулась к кровати и села, взяв маленькую ручку Артемы в свою.
— Давай, — сказала она Пармениону. — Сядь рядом с другой стороны. Попрощайся.
Парменион шагнул вперед и обхватил правую руку матери, и так они немного просидели вместе в молчании. Вошел Астион, но они не увидели его, и он тихо вышел.
— Она говорила о тебе в конце, — сказала Рея. — Она говорила о своей гордости. Хотела дождаться, увидеть тебя, узнать, как ты справился.
— Я выиграл, матушка, — сказал Парменион, сжимая безжизненные пальцы. — Я победил их всех.
Он всмотрелся в лицо Артемы. Глаза были закрыты, черты неподвижны.
— Она выглядит умиротворенной, — прошептала Рея.
Парменион затряс головой. Он не видел умиротворения, только ужасную необратимость смерти, полную неподвижность, удаленность от этого мира. Но рука ее была все еще теплой, а пальцы — гибкими. Сколько раз она унимала его боль, или ободряюще поглаживала по лицу вот этими руками? Он ощутил щемящую боль в груди и ком в горле. Слезы покатились свободнее, капая с лица и разбиваясь о руку матери.
— Она говорила о белом коне, — сказала Рея. — Она видела его на холмах. Он подходил к ней, и она сказала, что ускачет на нем назад в Македонию. В этом, наверное, есть какое-то слабое утешение. Она сказала еще, что видит твоего отца, ожидающего ее.
Парменион не мог говорить, но, собравшись, он прикоснулся к коже лица матери.