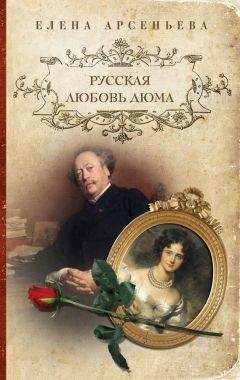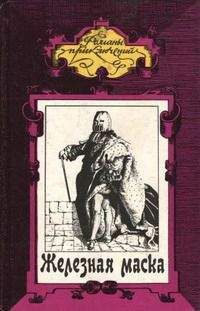Помню, как его любовь и почтительность ко мне, которую я в нем воспитывал, сменились озлоблением и грубостью, но поначалу я не мог понять причину столь резкой перемены в его поведении, ибо еще не знал, что он рылся в моей шкатулке, но он так никогда и не признался, каким способом он это сделал: то ли с помощью слуг, которых не хотел мне назвать, то ли каким другим способом.
И все-таки однажды он имел неосторожность попросить показать ему портреты покойного короля Людовика XIII и ныне царствующего государя; я ответил, что у меня имеются только крайне скверные портреты и что я жду, когда живописец исполнит новые, лучше, и тогда покажу их ему.
Мой ответ не удовлетворил его, и он попросил позволения съездить в Дижон. Впоследствии я узнал, что он намеревался там увидеть портрет короля, а затем отправиться ко двору, который по случаю бракосочетания короля с инфантой, пребывал в это время в Сен-Жан-де-Люс, и там сравнить себя с королем и проверить, похожи они или нет. Когда я узнал про это его намерение отправиться туда, я более не оставлял его одного.
Молодой принц был прекрасен, как Амур, и именно Амур помог ему получить портрет своего брата: уже несколько месяцев ему нравилась молодая домоправительница, он всячески ласкал и ублажал ее, и она дала ему портрет короля, вопреки моему запрету слугам давать ему что-либо без моего дозволения. Несчастный принц увидел на этом портрете себя, и это было тем более просто, что портрет этот мог вполне сойти за изображение как того, так и другого. Это привело его в такую ярость, что он прибежал ко мне со словами: «Вот мой брат, а вот я!» – и продемонстрировал похищенное у меня письмо кардинала Мазарини.
Я испугался, как бы принц не бежал и не явился на свадьбу короля. Я отправил его величеству депешу, сообщив про вскрытие шкатулки, и попросил новых инструкций. Король велел кардиналу распорядиться, и тот приказал заточить нас обоих вплоть до новых распоряжений, а также велел дать понять принцу, что причиной нашего общего несчастья стала его дерзость. Я страдал вместе с ним в тюрьме, пока не понял, что высший судья судил мне покинуть сей мир, и все же не могу для спокойствия собственной души и спокойствия своего воспитанника не сделать это заявление, которое укажет ему способы выйти – ежели король умрет бездетным, – из того недостойного положения, в каковом он пребывает. Да и может ли вырванная против воли клятва принудить сохранять в тайне невероятные события, про которые обязательно должны узнать потомки?»
Таков этот исторический документ, который регент предоставил принцессе и который не может не вызвать множество вопросов. Кто был воспитатель принца? Бургундец или он просто владел домом либо замком в Бургундии? На каком расстоянии он находился от Дижона? Несомненно, то был известный человек, поскольку при дворе Людовика XIII пользовался безусловным доверием, то ли по причине занимаемой должности, то ли как любимец короля, королевы и кардинала Ришелье. Можно ли из дворянской книги Бургундии узнать, кто в этой провинции после свадьбы Людовика XIV исчез вместе с молодым воспитанником лет двадцати, жившим у него в доме или в замке? Почему этот документ, которому уже около ста лет, не подписан? Может быть, он был продиктован умирающим, у которого уже не осталось сил подписать его? Каким образом документ вышел за пределы тюрьмы? И т. д. и т. п.
Разумеется, все эти вопросы остаются без ответа, и я не возьмусь утверждать, что сообщение это подлинное. Аббат Сулави рассказывает, что однажды он донимал маршала де Ришелье вопросами на эту тему и спросил: «А не может ли быть, господин маршал, что этот узник является старшим братом Людовика XIV, рожденным не от Людовика XIII?» Маршал, казалось, смутился, в объяснения вдаваться не пожелал, но и не стал ничего решительно отрицать; он лишь заверил, что эта важная персона не была ни побочным братом Людовика XIV, ни герцогом Монмутом, ни графом де Вермандуа, ни герцогом де Бофором, ни проч., как благоволят утверждать многие писатели. Подобные сочинения он назвал бредом, но добавил, что их авторы рассказывают в большинстве своем о случаях вполне возможных, и еще сказал, что приказ умертвить узника, как только он расскажет кому-нибудь о себе, действительно существовал. Наконец, маршал признался, что ему была известна эта государственная тайна и добавил: «Господин аббат, я могу вам сказать одно: в начале нашего века, когда этот узник скончался в весьма преклонных годах, он уже не имел никакого значения, но в начале своего царствования Людовик XIV повелел заточить его в тюрьму исходя из высших государственных интересов».
Рассказ этот был записан сразу же в присутствии маршала, и как аббат Сулави ни умолял его высказать еще какие-нибудь соображения, которые, прямо не раскрывая тайны, могли бы хоть в какой-то мере удовлетворить любопытство, какое возбуждает этот человек, Ришелье отвечал: «Прочитайте то, что г-н Вольтер опубликовал о Железной маске, особенно последние слова, и подумайте».
Ученые, за исключением Дюлора, всегда воспринимали сообщение Сулави с глубочайшим презрением; следует согласиться, что, окажись оно выдумкой, оно было бы чудовищным, а аббат Сулави – презреннейшим из людей. Но, к сожалению для защитников м-ль де Валу а, ее нравственность, равно как и нравственность ее отца и ее возлюбленного крайне трудно очернить: чем гнуснее мерзость, которая приписывается им, тем она вероятней. Относительно же возражения, что, дескать, не мог Лувуа о сыне Людовика XIII или о незаконном ребенке Анны Австрийской писать Сен-Марсу следующим образом: «Нет ничего неподобающего в том, чтобы перевести шевалье де Тези из камеры, где он находится, и поместить там вашего узника, пока вы не подготовите камеру, в которой он будет содержаться», – ответим, что не считаем подобное возражение основательным. Добавляют также, что Сен-Марс, подобно министру, тоже не мог выразиться в том же году, говоря об узнике: «…когда он будет помещен в подготавливаемую для него камеру, которая будет соединяться с часовней». А почему, спрашивается, Сен-Марс не мог так выразиться? Неужели назвать камеру камерой, а узника узником, означает выказать к нему непочтительность?
В 1791 г. некий г-н де Сен-Мийель опубликовал в Страсбурге и в Париже книгу, озаглавленную «Кто был в действительности Железная маска, сочинение, из коего благодаря неопровержимым доказательствам можно узнать, от кого сей знаменитый пасынок судьбы явился на свет, а равно когда и где он родился». Уже само заглавие дает представление о барочном и варварском стиле, в котором, кстати, написано все произведение. Трудно даже вообразить себе всю степень самонадеянности этого нового раскрывателя тайн; да найди он философский камень, сделай открытие, способное изменить облик мира, он и то не ощущал бы себя таким счастливым и гордым. Тем не менее, ежели разобраться, его неопровержимые доказательства никоим образом не дают окончательного решения и защищены от опровержений не больше, чем все предшествовавшие и последующие версии. Но главное, тут не хватает необходимого таланта в использовании и распоряжении имеющимися материалами. С вульгарнейшей ловкостью он сочиняет версию, противостоящую критике и опирающуюся, нет, не на безапелляционные аргументы (а кто способен их привести?), а на догадки и предчувствия, которые, разумеется, имеют большое значение в этой истории, где все покрыто мраком и тайной и где вечно нужно растолковывать, почему Лувуа выказывал такое почтение узнику и говорил с ним стоя и без шляпы.