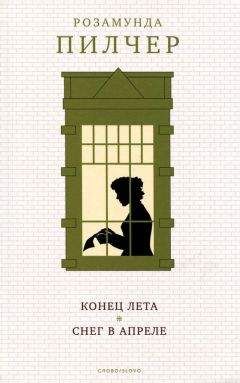Хольц, Каргер и Рорбах разглядывали Седого с любопытством и ненавистью.
– Тридцать метров, – сказал Хольц. – Ставлю бутылку "Мартеля"...
– Нет, Ганс. – Рорбах протестующе поднял руку. – "Тир" так "тир". Тридцать метров, и каждому по два выстрела. Стрелять по конечностям. Мы четвертуем его...
Андрей взглянул на Лотту. Она стояла теперь совсем близко к обрыву. Капюшон на ней был откинут, и волосы разметались по плечам. Ветер заламывал ее хрупкое тело над обрывом, и Седому казалось, что еще мгновение – и он столкнет женщину в пропасть.
Каргер считал шаги. Заледеневший снег гулко скрипел под его ногами. Последней к пятачку, вытоптанному Каргером, подошла Лотта.
– Господа, – услышал Андрей ее металлический голос, – прошу право первого выстрела...
– Да, конечно, – сразу же согласился Хольц и объявил, как на ипподроме: – Лотта Кестнер стреляет первой...
Лотта расстегнула куртку.
– Дайте мне ваш вальтер, Ганс. Мой пугач слишком легок...
Хольц протянул ей пистолет. Она встала боком, как на дуэли, чуть согнула вооруженную руку в локте и стала медленно поднимать ее, целясь Седому в голову.
Внезапно, когда все уже ждали выстрела, рука ее опустилась.
– Подарите мне пять шагов, господа... Мне трудно целиться.
Голос ее прозвучал тускло, почти жалобно.
– Вы женщина, Лотта, и имеете на это право. Делайте пять шагов и стреляйте, иначе наш пациент замерзнет.
Рорбах, как всегда, был снисходителен и вежлив.
Лотта сделала первый шаг, и Каргер громко сказал:
– Один...
– Два... – сказали вместе Хольц и Каргер.
Им нравилась эта игра.
– Три... – скандировали они, – четыре... пять... Стой!
И вдруг она резко повернулась. Лотта Кестнер стреляла в упор. Первым упал Каргер, так и не успев сообразить, что же произошло. Рорбах попытался выхватить из кармана куртки пистолет, но тут же рухнул, сраженный пулей в сердце. Хольц присел и прыгнул вперед, пытаясь достать Лотту своими длинными руками.
Она всадила в него две пули, и он зарылся лицом в снег у самых ее ног.
Лотта повернулась к Андрею, бросила вальтер и, пошатываясь, двинулась к нему, слабо взмахивая руками, словно собираясь взлететь.
– Ох! – Ноги у нее подогнулись, и она рухнула в снег. Но тут же попыталась подняться, бормоча: – Я сейчас... сейчас... У меня есть нож...
Лотта снова упала, и Андрей услышал, как она тихо плачет. Расстрел эсэсовцев стал последней каплей нечеловеческого напряжения, в котором жила Лотта все эти дни. И вот теперь, когда напряжение спало, не оказалось сил.
Андрей молчал. Он и сам чувствовал себя прескверно. Его бил озноб, горечь заполняла рот – удар по печени не прошел даром.
Наконец Лотта поднялась и, пошатываясь, приблизилась к скале-обелиску. Держа нож обеими руками, перерезала веревку. Седой вздохнул полной грудью, все еще боясь оттолкнуться от скалы.
– Как вас зовут? – устало спросил он. – Меня – Андрей...
– Я не могу сказать тебе своего имени, Андрюша... – Лотта смотрела на Седого добрыми, ласковыми глазами, и что-то материнское, нежное было в долгом ее взгляде. – Но я сделаю то, о чем мечтала всю войну. Я поцелую тебя за всю нашу Красную Армию, которая сломала фашистского гада... Я так долго ждала тебя... солдат...
– Да... – Седой откликнулся как эхо.
Она приблизилась к нему, протянула руки. Андрей вздрогнул и закрыл глаза. Он почувствовал ее теплые губы всего на одну секунду. Ему показалось, что его поцеловал ребенок.
* * *
Он трогал ее смерзшиеся, запорошенные снегом волосы и тихо говорил:
– Я достану его... Не волнуйся. Он ушел на расстояние крика.
– Да. Теперь я знаю – это он. Я так и думала, но не была уверена. Айсфогель... Я видела его однажды в Берлине. Никто не знает, в каком чине он служит в РСХА. – Лотта подняла к Седому лицо. – Андрей, это опасный, сильный человек. Будь осторожен. Возьми второй пистолет и все запасные обоймы. Я немного отдохну и пойду следом... Но пойдем мы не так, как он, а срежем угол. Под северным гребнем можно пройти к перевалу более коротким путем, но там в кулуаре почти всегда сходят лавины. В ясные дни с двенадцати до трех часов. Можно успеть... – Лотта взглянула на часы: – Сейчас десять... Он идет старой проверенной тропой – не хочет рисковать. А мы должны... Нас теперь двое. И помни: английский "стен-ган" бьет на двести пятьдесят метров. Вот, возьми... – Лотта протянула Андрею длинный красный шнур: – Привяжи к руке – вдруг все-таки лавина...
Седой спрятал шнур в карман, пересчитал обоймы и тоже сунул в карман. Тяжело поднялся, прошел к скале-обелиску, присел на корточки и стал разгребать снег.
– Потерял что-нибудь?
Лотта неслышно присела рядом.
– Танковую бригаду. Подполковник Сухов мне этого не простит. Фамильная вещь, известная всей Европе. Вот он...
Седой разжал ладонь с зачерпнутым снегом, извлек из беловатой массы жевательной резинки перстень и протянул его Лотте.
– Сдаю без расписки...
– Не годится, Андрей. Сам вручишь бриллиант Сухову Николаю Савостьяновичу...
– Ты знаешь Сухова?
– Знаю. Но об этом после... "Стен-ган" бьет на двести пятьдесят...
* * *
Он поднимался, и горы точно опускались. Когда он вышел на скалистый северный гребень, вершины уже стали ослепительно белыми. Весеннее солнце поднялось высоко, но здесь, у границы вечных снегов, было холодно и сыро. Тусклой голубизной отливали изломы ледников, прозрачные лиловые тени лежали в ущельях.
Седой надел темные очки, жадно поискал глазами фигуру Айсфогеля, не нашел и подумал, что рано, тот еще идет под прикрытием гребня.
К кулуару Смерти Андрей подошел, когда все вокруг было залито солнцем. Он сделал несколько шагов – и сразу оказался в полумраке. Солнце сюда не доставало. Со стен с гулким шипением спадали ручьи. Снег в кулуаре – смешанный с обломками скал, будто кто перепахал. Было угрожающе тихо.
Седой шагал быстро, как только мог. Ледяной разреженный воздух заставлял глубже дышать, чаще биться сердце.
Он шел и думал о Лотте. Успеет ли она проскочить кулуар до двенадцати? Совсем обессилела. Седой знал, что такое стрелять в упор в человека, даже если он и враг. К этому трудно привыкнуть. А она, скорее всего, делала это впервые. По самой что ни на есть необходимости. От бедра, когда нет времени, чтобы вскинуть руку с оружием. Про камень-талисман это все байки. Ей было важно, чтобы я не потерял веру в себя, важно было снять элемент обреченности – возьми камень, меня могут убить... На войне убить могут всегда. Но сейчас он не даст этого сделать человеку с красивой кличкой Айсфогель.
Не зря же он, майор Долгинцов, четыре года только и делал, что бегал вдогонку за смертью, а когда она оборачивалась, обманывал и уходил от нее.