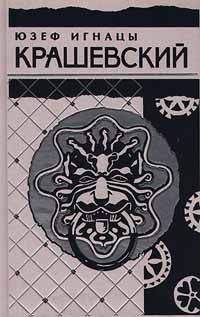слишком далеко, чтобы вернуться. Если бы все ваши польские силы стояли тут, не отступлю, а первому, кто бы смел меня к этому склонять, я меч бы погрузил в груди! Прошу вас об одном, заберите ваших людей и езжайте назад, и постарайтесь о тех моих слугах, которые остались в Кракове.
Началась тогда сцена прощания, со стороны подкомория искренняя и слёзная, которую король как можно скорей хотел окончить. Приблизился Тенчинский, плача, к Генриху и, достав из-под пояса нож, ударил им в руку, аж кровь брызнула, которую высосал, клянясь на ней, что останется верным королю.
Король, который к порезам руки был привыкшим, потому что кровью писал письма к любовницам, отплатил Тенчинскому так же взаимностью.
Граф на память подарил ему браслет из резных камней, прося о какой-нибудь маленькой памятке.
Суврей как можно скорей хотел это закончить, воскликнул, что не лишь бы что, а дражайшую памятку следует дать подкоморию.
Король снял с пальца дорогой (1200 талеров) перстень с бриллиантом и подал его Тенчинскому, который, по-прежнему рыдая и плача, целуя его руку, наконец расстался.
– От меня, господин граф, – прибавил Суврей, – примите мои доспехи, которые я оставил в моей комнате краковского замка.
Генрих кивнул своим и тут же двинулся дальше к моравской границе, где ждали поставленные Бельевром кони и карета.
Тенчинскому не было нужды спешить с возвращением, везя только грустную отправку, какую ему дали.
Все те, что выехали также за Тенчинским, желая нагнать короля: два маршалка, коронный и литовский, староста краковский, каштеляны, черский и гданьский, много шляхты добровольцев, одновременно несколько тысяч коней, убедившись, что Генриха не смогут догнать, от Затора и Освенцима вернулись.
Подкоморий ехал назад, зная, что его ждут в Кракове. Он, епископ куявский, Зборовский должны были много вынести, им приписывали всё зло.
Едва воротившись в Краков, подкоморий должен был направиться в замок, чтобы дать отчёт принцессе с его разговора с королём, с его торжественных обещаний, которым теперь никто верить не хотел. Сам Тенчинский, хотя старался Генриха защищать и оправдать, в своей душе мало имел надежды, чтобы можно было на него рассчитывать.
Теперь, когда короля не стало, а дела его, режим жизни и поведение в Кракове начали выходить на свет, также характер Генриха открывался со всем своим коварством, легкомысленностью и испорченностью.
Тенчинский, однако, должен был молчать и, хоть для собственного достоинства, становиться в его защиту.
Анна с любопытством, которого не скрывала, ожидала подкомория. Назавтра после возвращения он появился у неё.
Анна, пани крайчина, несколько старших дам вышли ему навстречу. Многочисленный фрауцимер, не в состоянии втиснуться в залу, остался за дверями. На лице, обычно спокойном и весёлом, видно было утомление дорогой и испытанным разочарованием.
– Напрасно я пустился за королём, – сказал он грустно, – только что ещё раз его видел, но ни мольбами, ни просьбами, ни угрозой подействовать на него не сумел, чтобы вернулся. Обещал, правда, самое большее через три месяца приехать в Польшу, но…
Тенчинский опустил голову и не докончил; не хотел признаться, что ни обещаниям, ни клятвам не верил…
Начал потом описывать подробности своей погони, в которой из нескольких десятков товарищей, едва четверо у него осталось, когда догнал Генриха.
Повторил потом свой разговор, слова короля, и вспомнил о том, что в конце намекнул ему о письмах, которые оставил к панам сенаторам.
Говоря это, Тенчинский зарумянился, потому что не смел поведать правды, что письма эти напрасно искали во всех покоях, и что их случайно открыли в маленьком тайнике, скрытом в глубине печи.
Принцесса, думая, что и для неё он должен был оставить письмо, сильно зарумянилась. Не смела сама спросить о том. Подкоморий догадался об этом вопросе и легко ответил на него.
– Я думал, – сказал он, – что среди писем, которые хорошо укрытые мы не без труда нашли, будет и какое письмо к вашему королевскому высочеству, никакого не было.
Принцесса прервала дрожащим голосом:
– Я никакого не ожидала, а Генрих теперь слишком занят своей французской короной, чтобы о польской мог помнить. Бог теперь знает будущее, мне кажется, что вы не много можете на него рассчитывать, и что вскоре на нового короля должны будете смотреть.
– Уж мы его почти единогласно выбрали, – отозвался подкоморий, – наученные совершённой ошибкой, мы должны были выбрать себе ваше королевское высочество, тогда бы всё, при благословении Божьем, пошло лучше.
Румянец снова выплыл на лице бледной Анны.
– Обо мне не думайте, – сказала она с достоинством, – но о той осиротевшей Речи Посполитой, которая сегодня также, как вдова, потому что имеет короля и осталась без него. Я вам с собой ничего принести не могу, а скорей бы вы должны бы обратить ваши глаза на того, которого я считаю собственным ребёнком, на маленького Сигизмунда, сыночка сестры моей. Он также ягелонской, хоть по кудели, потомок крови, а с ним бы так бы пришла к вам Швеция, как некогда с нами Литва.
– Он маленький ещё и несовершеннолетний, – ответил Тенчинский, – нам срочно, хотя бы для войны с Москвой, нужно храброго рыцаря и вождя, иначе то, что уже у нас забрали, пропадёт, и дальнейших захватов не избежим.
Говорили снова о Генрихе, а принцесса от доброго сердца вспоминала о французах, которые в великом страхе едва могли сопротивляться нападкам огорчённого люда, прося, чтобы их пощадили.
– Король мне их также поручил, – сказал Тенчинский, – позабочусь о них, хоть толпе удивляться не могу, потому что и в нашей груди горе и боль думать нам мешают.
Всё рассказав, подкоморий ушёл, а когда за ним закрылась дверь, принцесса долго сидела, опершись на стол, задумчивая, не говоря ни слова.
Она распрощалась со своими мечтами, удивляясь теперь, что когда-то могла их себе навязать и так долго их лелеять. С той же силой, с какой поначалу привязалась к Генриху, отдала всё сердце своё племяннику.
Хотела быть приёмной матерью, опекуншей, и всё пожертвовать, чтобы его и никого другого на трон возвести.
Из залы аудиенций медленный шагом она удалилась в спальню, пала на клечник, сложила руки, и, расплакавшись, в душе начала повторять:
– Сигизмунд! Сигизмунд!
Жертва было исполнена.
* * *
Каждый день теперь, точно на искушение принцессы, отзывались громче желания всех, чтобы выбрали ни кого иного, только Анну королевой, а будущему пану поставили условие жениться на ей.
Анне льстило это позднее признание прав, но после тяжкого испытания, какое пережила, почти равнодушно принимала эти доказательства привязанности к династии.
В голове у неё был теперь Сигизмунд.
Мало кто заблуждался возвращением Генриха,