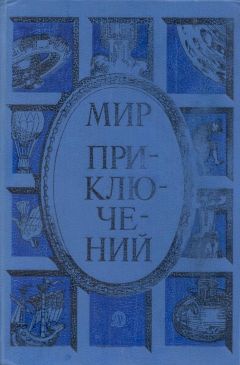Кочева, пятясь, сделал несколько шагов назад, еще несколько шагов и вдруг исчез, тяжким грузом пошел на дно болота.
Андрей в ярости вонзил вилы в землю, заскрежетал зубами, из глаза его выкатилась слеза:
– Ушел, собака!
Он готов был зарыдать от бессилия, от неудовлетворенной жажды расплаты, броситься за Кочевой в болото, найти его там и душить, душить ненавистную глотку!
Андрей опомнился. Вокруг затихал бой. Большая часть воинов Кочевы была перебита, кое-кому вместе с княжичем удалось пробиться назад, ускакать.
Андрей с трудом вытащил из земли вилы и подошел к Фролу. Тот с перерубленным, перевязанным плечом неторопливо рассказывал Рябому:
– Я на него верхом сел, да рылом-то о корягу, рылом…
Андрей прошел меж тел, разбросанных по земле, – многие лежали, сцепившись с врагом, будто и в смерти продолжали бой. Сняв шапку, Андрей постоял возле Бориски.
– Убитых закопать, – глухо приказал он Рябому. – Раненых с собой возьмем… Подадимся вглубь…
Рябой подошел к телу Фетиньи. «Эх, жаль молодицу! Лежит, словно уснула, подложив кулачок под щеку. Лучше б меня, чем такую, – жизни не узнала…»
Трудно было Фетинье в лесах, в непогоду, но никогда не видели ее сумрачной, не слышали и слова жалобы.
Вместе со всеми стойко делила она невзгоды, и каждому хотелось, чтобы подумала Фетинья о нем добро, хотя бы взглядом похвалила, приветила.
К ней относились, как к единственной сестре, с грубоватой нежностью ограждали от непосильных тягот, оберегали от опасностей.
Фетинья была общей любимицей – обшивала, обстирывала всех, звонкой песней прогоняла угрюмость.
Ее трогательная любовь к Бориске подкупала: радостно было видеть, что есть на свете такая нерушимая верность.
Хорошо было подумать, что, может, и ты дождешься своей Фетиньи.
– Давай вместе их похороним… – предложил Рябой помощнику и начал ожесточенно рыть мечом могилу.
Вырыв глубокую яму, они подошли к Бориске, приподняли его, чтобы подтащить к могиле, Бориска застонал.
– Жив! – радостно воскликнул Фрол и припал к груди Бориски. Сердце едва слышно билось, замирало, точно раздумывая, не остановиться ли?
– Жив!
Закопав Фетинью и других погибших, они приложили к ране Бориски листы подорожника и, осторожно ступая, понесли его в глубь леса на носилках из сплетенных веток.
…Бориска пришел в себя на третий день, попросил пить, тихо сказал:
– Фетиньюшку покличьте…
Но никто ему не ответил. Бориска приподнялся, затравленно поглядел на опущенные головы товарищей, разом все понял. Судорожно всхлипнув, опять погрузился в беспамятство. Он бредил, пытался вскочить с носилок:
– За что ж они ее?.. Ее-то за что?..
Наконец утих, а еще через два дня с трудом поднялся; щеки ввалились, лицо постарело. Глубокая борозда пролегла меж бровей. Глаза глядели сурово, сосредоточенно, в них словно спекся гнев. Кругом стояла тишина, только временами по верхушкам деревьев проходил ветер.
– Сколь наших осталось? – спросил Бориска идущего рядом Андрея.
– Меньше сотни…
Бориска сжал зубы. Оперся о палку, что держал в руке. Глядя прямо перед собой, сказал:
– Ничего. Теперь каждый за троих драться будет, зубами рвать глотки мучителям…
И медленно, упорно, словно Преодолевая тугой ветер, пошел вперед.
Торг раскинулся сразу у причала, взбегал вверх, к кремлевским стенам, будто искал у них охраны. От Бронной и Кузнецкой слобод несся несмолкаемый гул: там скрежетали напильники, огрызались зубила, то глухо, то звонко тукали молоты.
Купец Сашко глядел и глазам своим не верил: да неужто это матушка Москва?
Он вез из Сарая литовцам шелк и византийскую ткань – по коричневому полю золотые листья, – проделал тяжкий путь и на несколько дней решил остановиться в Москве.
Она поразила Сашко своим размахом: не ожидал встретить такую, совсем иной оставил много лет назад. Куда ни глянь – всюду строилась, будто взялась с кем-то наперегонки; всюду пахло смолой, тесом, валялась щепа. Виднелись торговые дворы иноземных купцов, полны народом улицы бондарей, гончаров, овчинников, седельников…
Льнули к берегу плоты с бревнами. Вверх и вниз по реке шныряли новгородские суда с орехами, медом, хмелем, светлыми щитами, сухой рыбой. Шумели водяные мельницы. У причалов пристани, на берегу толкалось несметно люда: зазывали лодочники и скупщики, торговались возчики с купцами, то там, то здесь встречались смуглые, желтые лица, мелькали тюрбаны, высокие мохнатые шапки, блестели серьги в ушах, раздавался золотисто-серебряный перезвон дукатов и московок, динаров и новгородок.[140] После тверского восстания перестали ханские баскаки ездить по Руси, и – это даже он, купец Сашко, живший далеко от родины, чувствовал – легче дышалось.
Над площадью стоял гомон от разноголосья.
Немецкий купец, весь в розовых складках, высунулся из лавки, хвалил прозрачный янтарь и яркие сукна; новгородский торгаш, прищелкивая языком, бил кожей о кожу; мужики окрестных селений сидели на возах со льном и коноплей, а рядом с ними гость с Белого моря навалил на прилавок «рыбьи зубы» – моржовые клыки. Мыла-то, мыла сколько! Нигде оно не было так дешево, как здесь. И кузнечных товаров видимо-невидимо: топоры и клещи, ножи и подковы – выбирай, что хочешь!
Сашко шел рядами, приценивался: ковры, ладан, сафьян, шали, галицкая соль, меха из Югры. Чего мало? Чего не хватает? Паволоки,[141] пожалуй, мало – должна быть ходким товаром. Да и красок что-то небогато…
Внимание Сашко привлек высокий русский купец с коричневыми от загара лицом и шеей. Лицо показалось Сашко знакомым. Купец этот яростно, увлеченно торговался с армянином – покупал у него душистые травы. Они то неистово били друг друга по рукам, то купец делал вид, что уходит, а армянин, нежно хватая его за полы, возвращал назад, то клялись и божились каждый на свой лад.
На русском купце – полинялый, прожженный солнцем зеленый кафтан, истоптанные красные сапоги, впитавшие, верно, пыль Царьграда и Хивы, Палестины и Багдада. Достаточно было посмотреть на омытое брызгами, овеянное ветрами многих морей лицо купца, чтобы представить себе: прежде чем попал он сюда, ему пришлось и отбиваться от пиратов, и переволакивать свои ладьи сушью, и садиться за весла, и ставить ветрила.
Наконец Сашко вспомнил: «Да я же встречался с этим московским купцом в Сарай-Берке, он даже останавливался у меня на дворе!»
Приблизившись к нему, Сашко с некоторой нерешительностью спросил:
– Сидор Кивря?
Кивря, прервав торг, окинул быстрым, цепким взглядом подошедшего, обрадованно воскликнул: