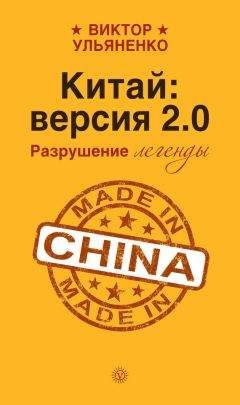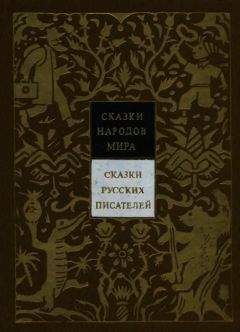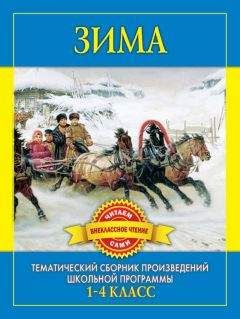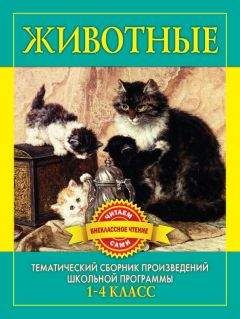вами в какой-то юной непосредственности, свежести и светлости. Хотя ватная куртка и такие же брюки делают ее полнее, она все-таки кажется очень легкой.
Девушка спокойна. Она будто прислушивается, как приходит к ней женственность, чувствует это всем своим существом и ничуть не удивляется, принимает этот приход как должное.
Старуха, Лунь Э, седая, сморщенная, тоже шьет, сидя на том же кане. Она разложила выкройку женской телогрейки – четыре замысловатых лепестка, вырезанных из сплошного куска материи, а посредине – отверстие для головы – и ровным-ровным слоем раскладывает по этим большим лепесткам белоснежную вату. Движения ее очень быстры и точны. Должно быть, она шьет эту курточку для своей новой невестки. Ведь через десять дней женится ее третий сын – Цзао Инь.
Старуха чему-то все время улыбается.
Мы поглядываем друг на друга давно, должно быть, Лунь Э о чем-то хочет меня спросить, поговорить, но о чем поговорить, если я знаю несколько десятков случайных слов по-китайски, а она – ни одного по-русски? Вот мы и молчим.
Наконец Лунь Э не выдерживает, тычет сухим пальцем в плечо своей дочери и смотрит на меня. Нет, я не понимаю, что ей нужно, и тоже вопросительно поглядываю на нее. Может быть, она хочет сказать: «Вот какая у меня большая дочь, какая работница! Какая помощница!»
Я киваю, говорю: «Хао-хао!» («Хорошо, хорошо!»), старуха смеется. Сян Мэй поднимает на меня спокойно улыбающиеся глаза, они у нее очень большие. Нет, я не понял, что старуха хочет от меня.
Лунь Э вздыхает, снова быстрыми, точными движениями раскладывает вату по выкройке, но я вижу, что она вовсе не отступилась от мысли поговорить со мной. И верно. Спустя еще минуту она показывает на себя, потом на Сян Мэй, потом на меня, и все ее сморщенное лицо выражает вопрос.
Очень просто. Она спрашивает: есть ли и у меня дочь? Вот у нее есть, а у меня?
Я снова киваю головой: есть! Есть и у меня дочь! Все трое мы смеемся.
Лунь Э, воодушевленная первым успехом, изображает рукой лестницу: повыше, потом опускает ладонь ниже, потом еще ниже.
Опять понятно: она спрашивает, какого роста у меня дочери, сколько их?
Я показываю один палец и говорю: «Игэ!» – одна.
Лунь Э с укором качает головой. «Мало, – как бы говорит она, – это очень мало, это не годится!» Ну что же, ей нельзя не верить, она старая и знает, что хорошо, что плохо.
Дальше беседа идет о наших семьях, почти так, как если бы мы разговаривали друг с другом совершенно свободно.
Когда приезжаешь в свою, русскую деревню, о чем будет спрашивать вас хозяйка дома? Она спросит: сколько у вас детей, как они учатся, какое у них здоровье. Все ваши ответы хозяйка примет близко к сердцу, потом вздохнет и скажет: «Вот и у нас…» – и поведает всю свою семейную жизнь. Может быть, вам никогда больше и не случится бывать в этой деревне, в этом доме, но вы знаете, что где-то у вас есть знакомые, и не просто случайные знакомые, а такие, о которых вы знаете совсем не мало, и они о вас – тоже.
Вот и здесь, в фанзе китайского крестьянина, разговор идет хоть и без слов, но совершенно так же.
Я уже много раз удивлялся сходству китайцев и русских. Старый китайский сельский учитель, даже если вы увидите его в халате и в черной шапочке, очень похож на нашего деревенского учителя, не внешне, а по каким-то неуловимым чертам облика в целом – по улыбке, по глазам, по спокойной манере разговаривать. Бригадира в китайском кооперативе различить ничего не стоит среди массы людей, так же как и нашего колхозного бригадира.
Особенное сходство – между женщинами, не молодыми, а пожилыми, попросту старухами. Не знаю, в чем тут дело, но только мне кажется, что материнство создает что-то общее между всеми женщинами мира и особенно между женщинами-труженицами. У них и жесты одинаковы.
В горной Юньнани одна, казалось бы, очень далекая для русского человека женщина, когда я вошел в фанзу, вдруг смахнула передником пыль со скамейки и предложила сесть. Я протянул ей руку, а она сначала вытерла свою тем же передником. И эти жесты вдруг заставили меня почувствовать себя на родине. И полутьма фанзы, и очаг, который дымно горел в углу, и закопченный Будда с паутиной в бороде – все это не то, чтобы стало незаметным, но не бросалось больше в глаза, отодвинулось куда-то на второй план.
И вот здесь старуха Лунь Э с помощью жестов и семейных фотографий тоже рассказывает мне, что у нее четыре сына, две дочери и двое внучат, что все здоровы, трое учатся и учатся хорошо, что ее муж – Лэй Логань любит картины, у него болит спина, он строгий муж, но так и должно быть; в общем он хороший человек, а ее, старуху Лунь Э, выдали за Лэя замуж давно-давно, когда она была вот такой же девочкой, как сейчас Сян Мэй. Конечно, мне легко все это понять, потому что почти все я уже знаю, но разве о семейных делах можно разговаривать только один раз, не повторяясь?
Старуха откладывает шитье, идет к колодцу за водой, давая мне понять, что ей очень интересно и еще поговорить, но ведь дело-то не ждет.
Я тоже выхожу из фанзы. Первый день декабря, небо хмурится вот уже с неделю, и глиняные стены дворика как будто постарели еще больше.
Во дворе с самого утра ходит по кругу мул с завязанными глазами и вращает жернов, а на жернове старший сын старухи Лунь Э, скуластый, с черной редкой бородкой, Цзао Чжун, мелет желтые зерна кукурузы.
Мы здороваемся с Цзао Чжуном за сегодняшний день уже пятый или шестой раз, и я выхожу на улицу. Там вижу писателя Син Е, с которым мы вместе приехали из Пекина в деревню, только он живет в другой фанзе. Ходит он всегда в зеленой солдатской гимнастерке, в синей кепке и в черных рабочих брюках. Человек это крупный, с полным лицом, на которое приятно смотреть в профиль: когда глядишь на него так, какие-то новые выражения улавливаешь в этом лице. Товарищ Син Е всегда тороплив и сосредоточен, и хотя мы встречались с ним много раз и вместе совершаем поездку, нам все не удается поговорить: то ему некогда, то мне.
Теперь мы идем по улице рядом, время у нас есть, а вот слов – нет.