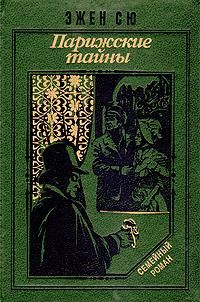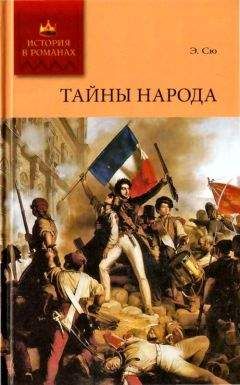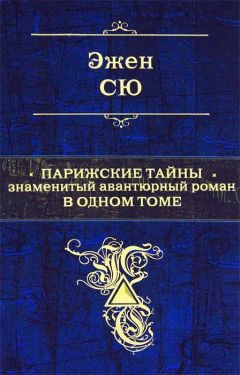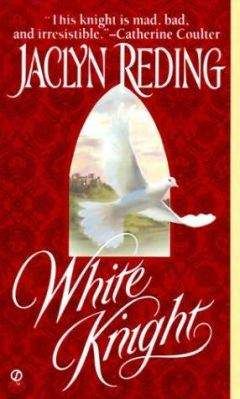С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.
— О чем ты думаешь, Поножовщик? — спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.
— Ни о чем, — резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: — Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть[47].
— Тебе удалось бежать?
— Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз... но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал вовсю; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато... недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь[48] так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло[49], я пробыл пятнадцать лет на кобылке... Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна адвоката. Понимаете, хозяин?
— Ты жалел, что твой приговор смягчили?
— Да... Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло — справедливое наказание; тем, кто ворует, — кандалы на лапы! Каждому свое... Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека... Дворники не понимают; что делается с тобой, особливо в первое время.
— Значит, у тебя были угрызения совести?
— Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, — ответил варвар Поножовщик, — но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть... они были не одни, — прибавил преступник с ужасом, — десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне... ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе... Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось... И, умирая, они смотрели на меня так смиренно... что я проклинал себя за то, что убиваю их... но не мог остановиться... Это еще не все... У меня никогда не было брата... а выходило, что люди, чью кровь я проливал, — мои братья и что я их люблю... Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.
— Дурной это сон, Поножовщик!
— Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел... этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.
— На каторге ты вполне мог научиться воровать.
— Да, но вкуса к воровству у меня не было... Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него… ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.
— Так он тоже освобожденный каторжник?
— Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.
— Бежал с каторги? И никто его не выдал?
— Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.
— Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?
— Приметы?.. Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь пекарь[50], что грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.
— Как же ему это удалось?
— Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.
— Шутишь!
— Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь, нос у Грамотея был, как у попугая, а стал как у курносой[51], не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.
— Значит, он стал неузнаваемым?
— За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые[52] много раз видели его, но так и не узнали.
— За что его отправили на каторгу?
— Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.
— Его здесь боятся?
— Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщина! Любопытно было бы посмотреть на это.
— На что же он живет?
— Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.,
— Рано или поздно его арестуют.
— Для того чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз, и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.
ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.
— А что ты делал после каторги?
— Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.
— Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?
— А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь... Меня тут боятся как огня, но ключай[53] не может ко мне придраться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.
— Сколько же ты зарабатываешь в день?
— Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.
— И все же ты не слишком несчастлив?
— Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице... но этот кошмар... Черт бы его подрал... не люблю вспоминать о нем, — сказал Поножовщик.