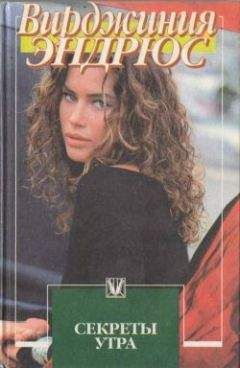В доме горели два угловых окна. Одно было раскрыто. Возле него стояла та самая барышня, которая сидела с Якубовым за одним столиком. На ее плечах лежал шерстяной платок с двойной белой каймой. Рысин всегда безотчетно жалел женщин, когда они кутаются в платок либо шаль. Жена знала за ним такую слабость и пользовалась ею не без успеха. Веяло от этой позы беззащитностью и домашней тревогой — болезнью ребенка, поздним возвращением мужа, женским вечерним одиночеством… Якубова видно не было. Речь его, глухая и медлительная, долетала из глубины комнаты отдельными словами, и Рысин, как ни напрягал слух, не мог уловить смысл разговора.
Наконец Якубов шагнул вперед, к окну. На мгновение тень его выросла до самого потолка — лампа горела настольная, потом сжалась, пропала, и Рысин разобрал одну фразу:
— Алексей Васильевич спит уже?
— Папа до сих пор не возвращался, — чистый голосок барышни слышен был отчетливо. — Ума не приложу, куда он мог подеваться!
Темнел дом, палисадничек. Пасмурные звезды выступали в небе. Якубов спросил что-то.
— Это за ним не водится, — ответила барышня.
Чуть слышно скрипнула ограда, какой-то человек спрыгнул на землю в двух шагах от Рысина и, не замечая его, метнулся к углу дома. Его голова обозначилась на фоне освещенного окна — оно уже прямоугольником горело в сумерках, — и Рысин успел разглядеть студенческую фуражку, очки, полоску усов.
Человек стоял, не шевелясь. Со стороны улицы его теперь прикрывали деревья. На темной жести водосточной трубы смутно белела кисть руки.
«Мы должны были встретиться, — думал Рысин. — Я чувствовал, что мы встретимся…»
Якубов вернулся к окну, сорвал с ветки листик сирени и задумчиво помял его губами. Спросил, не вынимая листика изо рта:
— Когда едете?
«Если он следил за Якубовым, то заметил бы и меня. Или я бы его заметил. Значит, он пришел сюда не за Якубовым. Он пришел к Федорову или его дочери. Следовательно, ему известно что-то такое, чего я не знаю… По приметам точно он!»
— Еще не решили, — сказала барышня. — Смотря по обстоятельствам.
— Да, совсем забыл! Мы условились, что вещи я перевезу к себе. Завтра утром…
Барышня удивленно вскинула головку:
— Почему я ничего не знаю?
— Сам поражаюсь… Все решено еще вчера.
— Ты пришел сообщить мне об этом?
— Вовсе нет. Я был уверен, что ты знаешь… Мне хотелось поговорить с Алексеем Васильевичем.
— О чем? — барышня задавала вопросы жестко, отрывисто.
— Думал узнать, не слышно ли чего нового об убийстве Сережи Свечникова. Как мне сказали в университете, твой отец освидетельствовал тело вместе со следователем из комендатуры.
Человек в студенческой фуражке убрал руку с водосточной трубы, придвинулся к окну. И Рысин ясно представил себе, что сейчас произойдет. Шелест раздвигаемых листьев, хруст веток, одна рука хватается за раму, в другой револьвер…
Ничего, однако, не произошло.
И уже в следующее мгновение Рысин понял — почему: завтра утром этот человек будет здесь.
И еще угадалось: о смерти Свечникова он услышал сейчас впервые.
Рука опять легла на водосточную трубу.
— Завтра в восемь я буду у тебя, — сказал Якубов.
«И он тоже будет здесь завтра в восемь!»
— Выйдем вместе, — отозвалась барышня. — Может быть, папа у Лунцева засиделся.
— Кто это?
— Зубной техник. Тоже нумизмат.
— Тебя проводить к нему?
— Не стоит, здесь рядом… Разве что до угла.
Погасли окна, хлопнула дверь. Тонкий отзвук молоточка в звонке надолго повис над палисадником. Мелькнули за оградой зеленый пиджак Якубова, жакетка его спутницы, и вскоре их приглушенные голоса смолкли в конце квартала. А еще через четверть часа Рысин, следуя за своим нечаянным соседом, заметил, что тот остановился перед входом в научно-промышленный музей и начал шарить по карманам — видимо, искал ключ.
— Трофимов! — тихо окликнул его Рысин, отделяясь от стены и выходя на середину улицы.
Теперь уже никаких сомнений не оставалось — это был именно он.
Трофимов отскочил, выхватил револьвер.
— Не стреляйте! — Рысин хотел было поднять руки, но в последний момент, устыдившись этой позы, просто широко развел их в стороны. — Мне нужно с вами поговорить!
Трофимов молчал. Браунинг светлел в его руке — теперь Рысин видел, что это браунинг. Его собственный револьвер оттопыривал карман галифе.
Напряжение лишь обостряло взгляд. Он видел бледное лицо Трофимова, съехавшую набок фуражку, у Трофимова был покатый лоб с сильно выпирающими надбровными дугами. По Лафатеру это свидетельствовало о преобладании логического мышления.
Рысин подумал об этом и тут же удивился сам себе — надо же, о чем он думает под наведенным на него дулом браунинга!
Трофимов наморщил переносье — дуги еще отчетливее обрисовались.
Рысин приближался.
У него самого таких дуг не было. У него был прямой отвесный лоб, над которым волосы торчали козырьком.
Трофимов медленно опустил руку с браунингом. Рысин подошел почти вплотную к нему. Руки он по-прежнему держал, отведя в стороны, словно борец, что при его комплекции выглядело комично.
— Кто вы такой? — спросил Трофимов.
Музейная дверь приотворилась, на крыльцо ступила девушка в зеленом платье. Трофимов, не спуская глаз с Рысина, шагнул к ней, левой рукой нашел ее руку.
«Везет мне сегодня на зеленое», — подумал Рысин.
Он опустил руки.
— Нам нужно поговорить!
— Прошу, — Трофимов указал дулом браунинга в темневший дверной проем.
Колонна растянулась по улицам. Вспыхивают здесь и там огоньки папирос, на мгновение освещают лица и гаснут. Кучками идут офицеры. Знамя в чехле, шашки в ножнах, наганы в кобурах. Молча идет колонна. Лишь новые французские сапоги с длинными голенищами стучат по булыжнику еще не обитыми подковками — цонк, цонк!
Последний резерв армии, 12-й стрелковый полк корпуса генерала Пепеляева, движется из казарм на станцию.
За полком гремят две подводы, груженные связками казацких пик — приказано доставить их на фронт.
Кому? Зачем?
Офицеры смотрят на окна — в окнах темно. Не отлетит занавеска, никто не махнет на прощанье, не осенит крестом. Хоть бы женский силуэт где промелькнул — шаль, наброшенная на плечи, мгновенный отсверк сережки! Темно в окнах, стекла чуть серебрятся. Лишь в типографии, где печатается «Освобождение России», виден свет. Редактор Мурашов вычитывает гранки: «Сегодня мы выбираем отцов города на новое четырехлетие…»