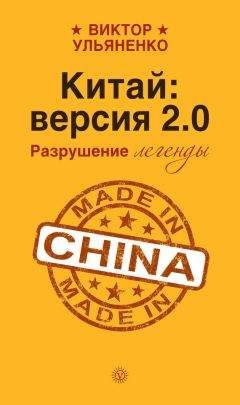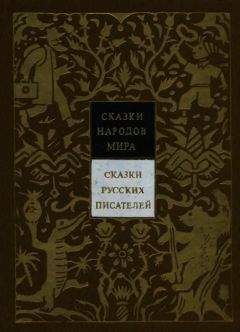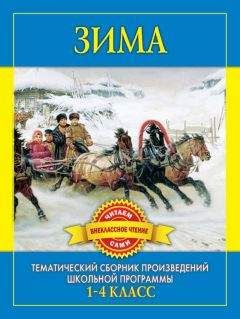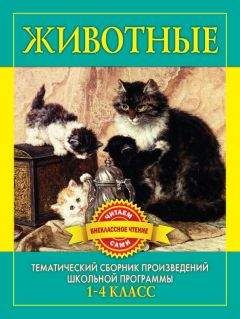с поникшими ветвями, горбатый мост и заходящее солнце, усталые конь и путник создают настроение неизбывной печали.
Смена времен года не только в природе, она – в самом человеке, который весь во власти времени. Это естественно, и китаец относился к этому философски, ибо так устроен мир. Горечь увядания, как и собственная старость, рождала печаль, но никогда – трагедию. Печалью отмечены многие поэтические строки, ибо срок жизни человеку отпущен небольшой (в одном старинном стихотворении говорится: «Человеческий век, в нем нет и сотни годов»), а природа постоянно напоминает ему об этом. Жизнь человеческая непрочна – она «не из металла и камня», она мимолетна, словно блеск молнии. В частности, отсюда постоянные в поэзии образы путника, странника. И когда поэт пишет о белых росах, которые станут инеем к утру, – это тоже о быстротечности жизни: с глубокой древности роса символизировала быстротечность жизни. В народной песне говорится:
Как быстро исчезла роса
Со стрелок дикого лука!
Исчезла, но поутру ляжет опять.
А человек, в могилу сойдя, разве вернется?
Для китайского поэта собственное старение – только знак быстротекущего времени, как уносящиеся воды потока, уплывающие облака, осыпающаяся листва. Он не говорит о себе – он говорит о мире, в котором жизнь, старость, смерть пребывают от века. Еще Конфуций заметил: «Умершее станет прахом, прах уйдет в землю».
* * *
Не последнюю роль в формировании того поклонения, которым окружались в традиционном китайском обществе старость и старики, сыграло с древности бытовавшее уважение к личности учителя. Среди прочих обязанностей человека Конфуций на одно из первых мест ставил учение. Собственно, книга его бесед с учениками, Луньюй, открывается известной сентенцией: «Учиться и притом все время в усвоенном упражняться – это ли не радость!» Самого Конфуция почтительно именовали и до сих пор именуют Учителем. Поскольку он отдавал предпочтение внутренней, семейной социальности, по образцу семьи должна была строиться и школа, которую прямо именовали «семьей», а отношения учителя и ученика уподоблялись отношениям отца с сыном. Именно школа в древнем и средневековом Китае являлась местом передачи традиции во всей ее полноте «от сердца к сердцу» и вне объективного, общепонятного знания, а ученик там не столько учился, сколько воссоздавал в себе личность учителя. Таким образом, в паре учитель – ученик не только иерархически воспроизводились принятые в семье отношения родителя с ребенком; воспроизводится воспитательная модель подражания старшим в семье, тем более что престиж учителя стоял на огромной высоте; в процессе обучения возникало буквально «духовное сыновство».
Кроме того, учитель наследовал почтение, которым окружены были древние мудрецы, и в определенном смысле поклонение ему становилось частью культа предков – недаром слово «учитель» буквально значит по-китайски «преждерожденный».
Так что заданный в семье стереотип безмерного уважения к старшим получал логическое продолжение в «школьной семье», а объектом почитания оказывался «учитель-отец» [47]. Если учесть, что даже формальное обучение из-за неимоверных трудностей усвоения иероглифической письменности, литературного языка и древних канонических текстов длилось добрую треть жизни, а учение «в духе» – до самой смерти, то ребенок, начавший учиться в три года, даже сделавшись главой семьи и перейдя в разряд «старших», в глазах учителя и в своих собственных все равно оставался младшим со всеми вытекающими из этого положения обязательствами почитать старшего.
Все, сказанное пока о старости, исходило из одного истока китайской мудрости, получившего по имени своего основателя название «конфуцианство», впрочем, только в Европе, в Китае его именуют просто «школа (или семья) ученых». Это бесспорно наиболее авторитетное течение китайской мысли, под влиянием которого сложились главные этические идеологемы всей дальневосточной культуры.
Но было и другое, тоже весьма влиятельное вероучение, у истоков которого стоял мудрец Лао Цзы, или Лао Дань, возможно, старший современник Конфуция. Традиция приписывает ему знаменитый Дао дэ цзин – «Книгу о Пути и Благодати». Даосизм, учение о Дао – Пути, наравне с конфуцианством апеллировал к глубокой древности как идеальному веку человечества. Но если последователи Конфуция, сознавая несовершенство, грубость и пошлость мира, стремились все-таки в меру сил восстановить утраченный старинный идеал, обращались за великой правдой к древним текстам, устанавливали моральные нормы и правила образцового поведения, действовали, одним словом, то даосы, отчаявшись исправить людей, обратились на самих себя, стремясь уйти прочь от всего, что дурно влияет на человеческую природу, – от мирской суеты с ее страстями и желаниями. Они культивировали природную простоту и естественность, придерживались принципа «недеяния», полагая, что любое вмешательство в естественный ход вещей пагубно сказывается на органической целостности мироздания и в конечном счете на присутствии в нем Дао, Всеобщего Закона Природы, Правила. Впрочем, любое называние Дао бессмысленно, ибо Дао – это все и ничто. Дао дэ цзин начинается знаменательным утверждением: «Дао, могущее быть определенным, не есть истинное Дао».
Даосизм исходно впитал в себя те элементы китайской культуры, которые были высокомерно отвергнуты конфуцианством, – древние верования, практики шаманизма, гадания и врачевания. Так, от древнего шаманизма он унаследовал представление о наличии у человека животной души (по) и мыслящей души (хунъ). Только тело соединяло их вместе, и его смерть влекла за собой их гибель. Поэтому уже в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие сделалось одной из главных ценностей китайской культуры в ее даосском изводе. Постепенно возникла вера в возможность обретения бессмертия через употребление особых снадобий растительного или минерального происхождения.
Однако даосизм не удовлетворился идеалом простого физического продления жизни. Истинный даосский «бессмертный» на пути к бессмертию радикально трансформировал, преображал свое тело, которое приобретало сверхъестественные силы и способности: умение летать по воздуху, становиться невидимым, одновременно находиться в разных местах и даже сжимать время. Но главной целью была трансформация сознания, в результате которой даосский «бессмертный» воплощал идеал единства со всем сущим и с Дао как таинственной первоосновой мира.
Даосы полагали дух более ценной субстанцией, чем тело, ибо жизненная сила зависит от духа. Тело для даосов выступает условием функционирования духа, «колесницей духа». Как написано в старинной классической книге по китайской медицине, «если тело повреждено, дух его покидает; если дух его покидает, наступает смерть» [48].
Таким образом, с совершенно иных исходных посылок, чем конфуцианство, даосизм пришел к той же фундаментальной для китайской картины мира идее о высочайшей ценности жизни и долголетии как ее наиболее полном земном воплощении. Даосских старцев – и тех, что уходили в отшельнические скиты, и тех, что жили среди людей, – почитали не только за знания алхимических премудростей, но и за почтенный возраст.
Следует сказать, что даосизм