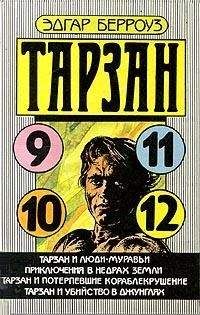— Это была давняя склонность, — спросил я, — или минутный каприз?
— Ни то и ни другое, мистер Додд, — признался он. — Конечно, в те времена, когда я был бродячим фотографом, я научился понимать и ценить красоту природы. Но дело не в этом. Я просто спросил себя, что в данную эпоху нужнее всего моей стране. Побольше культуры и побольше искусства, ответил я себе. И вот, выбрав самое лучшее место, где можно приобрести необходимые знания, я накопил денег и приехал сюда.
Глядя на Пинкертона, я испытывал восхищение и стыд. У него в мизинце было больше энергии, чем во всем моем теле; он был нашпигован всяческими завидными добродетелями; он буквально излучал бережливость и мужество; а если его художественное призвание и казалось (по крайней мере человеку с моей требовательностью в этом отношении) несколько смутным, то, во всяком случае, трудно было предугадать, чего может добиться человек, исполненный такого энтузиазма, обладающий такой душевной и физической силой. Поэтому, когда он пригласил меня к себе посмотреть его произведения (один из обычных этапов развития дружбы в Латинском квартале), я пошел с ним, исполненный больших ожиданий и интереса.
Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями — его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это — искусство и все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкертон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какиенибудь достоинства — и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. К тому времени, когда я кончил обходить комнату во второй раз, нами обоими овладело крайнее уныние.
— Ах, — простонал он, нарушая долгое молчание, — вы можете ничего не говорить! И так все ясно.
— Вы хотите, чтобы я был откровенен с вами? По моему мнению, вы зря тратите время, — сказал я.
— Вы не видите никаких проблесков? — спросил он со внезапно пробудившейся надеждой. — Даже в этом натюрморте с дыней? Одному моему товарищу он понравился.
Мне оставалось только еще раз со всей внимательностью рассмотреть дыню, что я и проделал, но потом опять покачал головой.
— Мне очень жаль, Пинкертон, — сказал я, — но я не могу посоветовать вам и дальше заниматься живописью.
Он, казалось, в эту минуту снова обрел мужество, оттолкнувшись от разочарования, словно резиновый.
— Так, — решительно произнес он, — честно говоря, ваши слова меня не удивили. Но я буду продолжать обучение и отдам ему все силы. Не думайте, что я теряю время зря. Ведь это все культура, и она поможет мне расширить сферу моей деятельности, когда я вернусь на родину. Может быть, мне удастся устроиться в какой-нибудь иллюстрированный журнал, а на крайний случай я всегда могу стать торговцем картинами, — добавил он простодушно, хотя от такого чудовищного предположения мог, казалось, рухнуть весь Латинский квартал. — Ведь все это жизненный опыт, — продолжал Пинкертон, — а, по-моему, люди склонны недооценивать опыт и как доходную статью и как выгодное помещение капитала. Ну, да все равно. С этим кончено. Однако, для того, чтобы сказать то, что вы сказали, требуется большое мужество, и я никогда этого не забуду. Вот моя рука, мистер Додд. Я неровня вам и по культуре и по таланту…
— Ну, об этом вы судить не можете, — перебил я. — Свои работы вы мне показали, но ведь моих еще не видели.
— И то правда! — вскричал он. — Так пойдемте посмотрим их сейчас. Но я знаю, что мне до вас далеко. Я это просто чувствую.
Сказать по правде, мне было почти стыдно вести его в мою мастерскую. Хороши ли, плохи ли были мои работы, все равно они неизмеримо превосходили его творения. Однако хорошее настроение уже успело к нему вернуться, и я только диву давался, слушая, как он весело болтает о всяческих новых замыслах. В конце концов я понял, в чем суть: передо мной был не художник, который понял, что бездарен, а просто делец, узнавший (может быть, слишком внезапно), что из двадцати заключенных им сделок одна оказалась неудачной.
А кроме того (хотя тогда я об этом и не подозревал), он уже искал утешения у другой музы и льстил себя мыслью, что отблагодарит меня за искренность, укрепит нашу дружбу и (с помощью того же средства) докажет мне свою талантливость. Уже по пути, стоило мне заговорить о себе, он вытаскивал блокнот и что-то быстро в него записывал, а когда мы вошли в мастерскую, он повторил эту операцию и, прижав карандаш к губам, обвел неуютный зал внимательным взглядом.
— Вы собираетесь сделать набросок моей мастерской? — не удержался я от вопроса, снимая покров с Гения штата Маскегон.
— Это секрет, — сказал он. — Ну ничего. И мышь может помочь льву.
Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему мой замысел. Маскегон я изобразил в виде юной — совсем еще юной — матери несколько индейского типа; на коленях она держала крылатого младенца, символизировавшего взлет, который обещало нашему штату будущее, а восседала она на груде обломков греческих, римских и готических статуй, служивших напоминанием о тех странах, где жили наши предки.
— Вы удовлетворены своим произведением, мистер Додд? — спросил Пинкертон, когда я закончил объяснения.
— Ну, — ответил я, — мои товарищи считают, что для начала это не так уж плохо. Признаться, я и сам того же мнения. Отсюда статуя видна в наиболее выгодном ракурсе. Да, мне кажется, у нее есть кое-какие достоинства, — добавил я, — но я намереваюсь лепить еще лучше.
— Именно так! — вскричал Пинкертон. — Хорошо сказано! — И он принялся что-то царапать в своем блокноте.
— Что на вас нашло? — осведомился я. — Это же самое обычное и заурядное выражение.
— Чудесно! — удовлетворенно хмыкнул Пинкертон. — Гений, не сознающий собственной гениальности. Ну до чего же хорошо все ложится! — И он снова начал яростно писать.
— Если вы решили рассыпаться в любезностях, — заметил я, — то балаган закрывается. — И я сделал движение, собираясь набросить покров на статую.
— Нет, нет, — сказал он, — погодите! Расскажите мне еще что-нибудь. Что именно в ней хорошо?
— Я предпочел бы, чтобы вы сами это решили, — ответил я.
— Беда в том, — возразил он, — что я никогда не занимался скульптурой, хотя, конечно, часто любовался статуями, как всякий человек, наделенный душой. Сделайте мне одолжение, объясните, что вам в ней нравится, к чему вы стремились и каковы ее достоинства. Это будет полезно для моего образования.