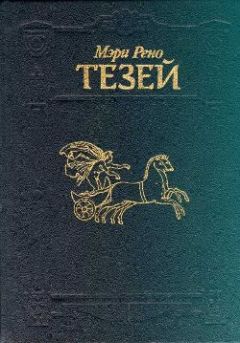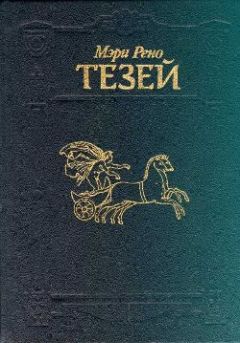Но уж так всё удачно получалось — я решился, и на этом же празднике объявил всю Аттику и Элевсин единым царством с единым законом. Вожди, ремесленники и крестьяне — все согласились разбирать свои тяжбы в Афинах; жрецы признали своих богов в наших, добавив — если им хотелось — те имена, какие они употребляли дома… Они все наконец поняли, что теперь в Аттике воцарился мир; что любой человек, если только он не убил своей рукой и его не ждет кровная месть, сможет идти безоружно через землю своих соседей. Поняли и приняли.
Как раз вскоре после того я поехал в Колон, чтобы принять знамения Посейдона.
Там есть чудесное место неподалеку от города, очень хорошее для винограда и олив; молодые влюбленные ходят туда слушать соловьев. Но вершина священна и принадлежит Посейдону-Коню, так что даже в те дни люди ее не тревожили. Там не было ничего примечательного — потрескавшиеся скалы да еловый лесок… Но если забраться на самый верх, то под тобой был округлый плоский провал — будто огромное конское копыто вмяло землю — примерно такой ширины, как мальчик может кинуть камень.
Наверно, тысяча лет прошла с тех пор, как бог ступил сюда: местность заросла кустарником и колючкой, святилище было крошечное, а жрец жирный и сонный… Но я разозлился, приехав сюда в прошлый раз и увидев, что этим местом пренебрегают, — бог явно был там: когда я стоял на гребне, у меня дрожало под затылком, бегали мурашки по спине… Я спросил у жреца, чувствует ли это и он, — он сказал «да». Я знал что он врет, но не мог этого доказать; и вот теперь Сотрясатель Земли сделал это сам: толчок был не сильный, но дом жреца рухнул, и его придавило в постели насмерть. Люди в том краю перепугались и срочно послали за мной, умоляя помирить их с богом.
Я выехал туда на трехконной колеснице, с конной стражей. Мы украсили лошадей в честь Отца Коней: у моей упряжки были султаны из красных перьев на лбу, а хвосты заплетены в косы, остальные лошади — в лентах… Лучшего жеребца моих табунов мы вели с собой для жертвоприношения. Но бог выбрал не его.
Мы были уже близко, и я искал глазами людей, которым так был нужен, — дорога была пуста. Тяжесть божьего гнева давила землю. Я чувствовал это, я был почти на пределе — и подумал, уж не ударит ли он снова… Сверху донеслись крики и женские вопли… Аминтор двинулся было вперед, но я задержал, — решил сам посмотреть, что они там вытворяют, — остановил колонну и пошел пешком, с четырьмя воинами.
Ближе стало слышно, что женский голос просит пощады, — истошный, жалобный, прерываемый кашлем, когда она била себя в грудь… Слышалась ругань и глухие удары камней… Поднявшись на гребень, я увидел, что деревенские бьют камнями мужчину. Он скрючился на земле, прикрыв голову руками, на его белых волосах была кровь; женщина, еще молодая, рвалась к нему, умоляла их пощадить ее отца, который и так достаточно страдал… Когда они отшвырнули ее, она закричала, взывая к Посейдону, — и в этот момент я шагнул вперед и окликнул их. Они обернулись, разинув рты, уронив свои камни.
Женщина бросилась бегом ко мне. Всхлипывала, спотыкалась о комья земли меж рядов винограда; ее платье было изодрано и покрыто кровью, грудь расцарапана… Она состарилась до времени, как крестьянка, но не похожа была на крестьянку: черты были вырезаны другим резцом. Упав мне в ноги, она обхватила мои колени, стала их целовать, и я ощущал кожей ее слезы.
Я поднял кверху ее лицо, — покрытое пылью, но тонкое, благородное, — спросил, в чем обвиняют ее отца; но старейшина деревни заговорил раньше. Мол, этот отщепенец, нечистый перед всеми богами, прикоснулся к алтарю Посейдона, стараясь принести смерть им всем, — ведь Сотрясатель Земли и так разгневан!.. Тем временем, услышав наш разговор, человек поднялся на колени. Он вытянул перед собой руки, ища чего-то, — наверное девушку, — и я увидел, что он слеп.
— Можешь пойти к нему.
Это я ей сказал. И поднял руку, чтобы задержать остальных. Она подошла, подняла его, вложила ему в руку посох и повела его ко мне. Он был в крови, но костей ему еще не поломали; а по тому, как он держался, — видно было, что ослеп уже давно. Она шептала ему на ухо, рассказывая кто я. Он повернул лицо в мою сторону, и меня пробила дрожь: лицо этого старика было лицом самого рока; он был по ту сторону горя, по ту сторону отчаяния, он забыл и надежду, и страх, как мы забываем молоко своего младенчества…
Он шел, ощупывая посохом землю перед собой и опираясь на девушку. На нем была короткая туника, какие одевают в дорогу… Она была порвана и окровавлена, и видно было, что запачкана и изношена уже давно; но шерсть была тонкая, а узоры на кромках когда-то надолго задержали у станка искусную ткачиху. Пояс его из мягкой выделанной кожи, был когда-то украшен золотом — остались дырочки от бляшек… Я хотел рассмотреть и его сандалии, — но не увидел их, потому что увидел ноги. Сильные, мускулистые ноги, привычные к долгой ходьбе; но они были покороблены — словно дерево, порубленное в юности и залечившее шрамы корой. Тогда я понял, кто это.
Всё тело мое покрылось гусиной кожей, а рука поднялась непроизвольно, делая знак против зла. Его сморщенные опущенные веки дрогнули, словно он увидел это.
— Ты Эдип, — сказал я, — тот, что был царем в Фивах.
Он опустился на одно колено. В его поклоне была скованность — не только от суставов, — царю трудно научиться поклонам… На момент я оставил его коленопреклоненным. Я знал — учтивость требует, чтобы я не попросил его встать, а поднял бы, взяв за плечи, — но руки меня не слушались.
Когда колонская братия увидела, что я не двинулся к нему, — словно открылась дверь псарни перед сворой шавок: с воем и лаем они ринулись вперед, снова похватав свои камни… Они будто плясали вокруг меня на задних лапах, чтобы я подхватил этого старика, как скелет, обтянутый кожей, — схватил и швырнул им в пасти…
— Назад!..
Ярость против них была сильнее отвращения к тому, кто стоял передо мной на коленях. Потому я обнял его — его старые кости и вялая плоть были такими же, как у всякого другого. Просто человек в беде, вот и всё.
Женщина, прекратив свои вопли, теперь беззвучно плакала, зажимая рот руками. Он стоял передо мной, приподняв лицо, словно его мысленный взор видел человека повыше ростом… Теперь стало тихо; и я слышал ворчание людей, бормотавших друг другу, что даже царю не пристало искушать богов.
Колон Лошадиный — всегда мне там неспокойно, хоть он и очень красив. А в тот день — я уже говорил — вокруг всё было напряжено, земля дышала тревогой… Ярость во мне кипела так, что все тело стало вдруг от нее невесомым; я повернулся к ворчавшей толпе и закричал:
— Тихо! Вы кто — люди?.. Или кабаны? волки? шакалы?.. Я говорю вам — это закон Зевса щадить просящего… И клянусь головой отца моего, Посейдона: если вы недостаточно боитесь богов, то будете это делать из страха передо мной!