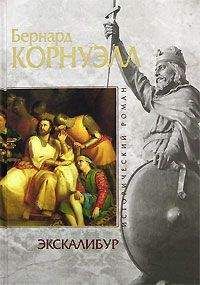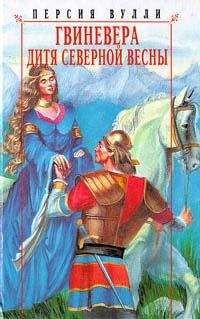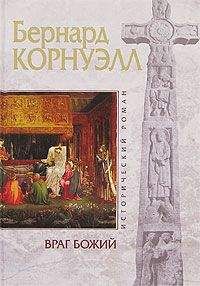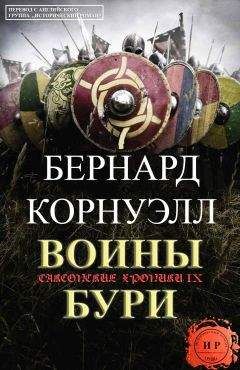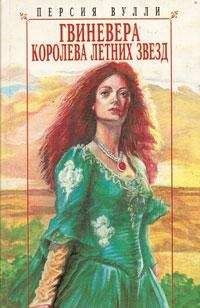Ознакомительная версия.
— Да будет так, господин, — смиренно согласился я. Да только куда уж мне стоять на страже? Я сед, стар и слаб. Из меня сейчас такой же дозорный, как из младенца двухлетнего. Но протестовать я не стал. Едва Сэнсам вышел, я выдвинул Хьюэлбейн из ножен и подумал, как же потяжелел клинок за долгие годы, что лежал без дела в монастырской сокровищнице. Массивный, неуклюжий — но это по-прежнему мой меч! Я жадно рассматривал пожелтевшие свиные косточки, вставленные в рукоять, а потом — любовный перстень, вделанный в навершие; на сплюснутом кольце и сейчас поблескивала крохотная частичка золота, похищенная с Котла давным-давно. Сколько историй воскресил в памяти этот клинок! На лезвии темнело пятно ржавчины; я осторожно соскреб ее ножом, которым очинял перья, и долго еще держал его в руках, воображая, что я снова молод и Хьюэлбейн мне по силам.
Мне? Стоять на страже? На самом-то деле Сэнсам вовсе не сторожить меня поставил — ему надо, чтобы я торчал у врат, как дурень и пал под мечами врагов бессловесной жертвой, пока сам он удерет через черный ход, одной рукой сцапав монастырское золото, другой — святого Тудвала. Что ж, ежели судьба моя такова, жаловаться я не стану. Я предпочту умереть, как мой отец, с мечом в руке, даже если рука моя ослабла, а клинок затупился. Не такой судьбы хотел для меня Мерлин, да и Артур тоже, но для воина эта смерть — в самый раз, и хотя долгие годы я был монахом, а христианином — еще дольше, в моей грешной душе я по-прежнему копейщик Митры. И я поцеловал Хьюэлбейн, радуясь его возвращению спустя столько лет.
Так что теперь, когда верный меч мой со мной, я допишу финал. Будем надеяться, у меня достанет времени завершить эту повесть о господине моем Артуре, которого при жизни предавали и порочили, но воистину ни о ком другом в истории Британии так не жалели, когда он ушел.
После того как мне отрубили кисть, у меня начался жар, а когда я пришел в себя, то увидел: у постели сидит Кайнвин. Я не сразу ее узнал: ее короткие волосы стали белее пепла. Но то была моя Кайнвин, живая и невредимая, и здоровье уже возвращалось к ней. Заметив, что в глазах моих блеснул свет, она наклонилась и прижалась щекой к моей щеке. Я обнял ее левой рукой — и обнаружил, что нет у меня пальцев, чтобы погладить ее по спине, есть лишь культя, замотанная окровавленной тряпкой. Занятно: я чувствовал свою кисть, чувствовал, как она зудит и чешется, а кисти-то и не было. Ее сожгли.
Неделю спустя меня крестили в реке Уск. Обряд совершил епископ Эмрис, и как только он макнул меня в холодную воду, Кайнвин спустилась вслед за мной по илистому берегу и заявила, что тоже желает принять крещение.
— Я пойду за моим возлюбленным, — объявила она епископу Эмрису, и он сложил ей руки на груди и опрокинул ее назад, в воду. Так, под женское пение, мы были крещены и тем же вечером, одетые в белое, впервые вкусили христианского хлеба и вина. После службы Моргана достала пергамент, на котором записала мое обещание повиноваться ее мужу в христианской вере, и потребовала, чтобы я поставил на свитке свое имя.
— Я же тебе слово дал, — удивился я.
— Ты подпишешь, Дерфель, — настаивала Моргана, — и принесешь клятву также на кресте.
Я вздохнул — и подписал. Христиане, похоже, не доверяли клятвам по древнему обычаю, предпочитая пергамент и чернила. Так я признал Сэнсама своим господином; после того как я начертал свое имя, Кайнвин непременно пожелала добавить свое. Так началась вторая половина моей жизни, половина, в течение которой я соблюдал свой обет Сэнсаму, хотя и не так хорошо, как надеялась Моргана. Знай Сэнсам, что я пишу эту повесть, он бы счел это нарушением обещания и примерно наказал бы меня, да только мне уже все равно. Много грехов на моей совести, но клятвопреступлений — нет.
После крещения я опасался, что Сэнсам призовет меня к себе, в Гвент, ко двору короля Мэурига, но мышиный король просто хранил мое письменное обещание и ничего не требовал — даже денег. До поры до времени.
Культя заживала медленно. Я упрямо упражнялся со щитом, что на пользу ране отнюдь не шло. В битве левую руку продеваешь сквозь два плечевых ремня и вцепляешься покрепче в деревянную рукоять, однако пальцев-то я лишился. Так что теперь я снабдил кожаные петли пряжками и затягивал их на предплечье. Получилось не так надежно, как при обычном способе, но все лучше, чем вовсе без щита, и, попривыкнув к тугим ремням, я упражнялся с мечом и щитом, выходя против Галахада, Кулуха или Артура. Щит сделался громоздок и неудобен, тем не менее сражаться я мог, даже при том что после каждой сшибки культя начинала кровоточить, и Кайнвин отчитывала меня, накладывая новую повязку.
Настало полнолуние, но я не доставил к Нант Ддуу ни меча, ни жертвы. Я ждал, что Нимуэ станет мстить, но нет, все было тихо. Спустя неделю после полнолуния люди праздновали Белтейн, а мы с Кайнвин, покорные воле Морганы, не стали гасить огней и дожидаться, пока зажгут новые. Но на следующее утро к нам зашел Кулух с головней нового огня и швырнул ее нам в очаг.
— Хочешь, я съезжу в Гвент, Дерфель? — спросил он.
— В Гвент? — не понял я. — Зачем?
— Прирезать эту жабу Сэнсама, вот зачем.
— Он мне не докучает.
— До поры до времени, — проворчал Кулух, — но он еще свое возьмет. Не представляю тебя христианином, хоть убей. Небось совсем другим человеком себя чувствуешь?
— Да нет.
Бедняга Кулух! Он всей душой радовался, что Кайнвин поправилась, но проклинал сделку, что я поневоле заключил с Морганой. Кулух, как и многие другие, недоумевал, с какой стати я просто-напросто не махну рукой на обещание, данное Сэнсаму. Но я боялся, что тогда недуг Кайнвин, чего доброго, вернется, и хранил верность клятве. Со временем послушание вошло в привычку, а когда Кайнвин умерла, я понял, что не стану нарушать обета, пусть даже и свободен ныне от его пут.
Но в тот день, когда новый огонь согрел холодные очаги, так далеко в неведомое будущее мы не заглядывали. День выдался ясный, солнечный и благоуханный. Помню, в то утро мы купили на ярмарке гусят: думали, запустим их в маленький прудик за домом, внукам на забаву. А потом я пошел с Галахадом в амфитеатр и потренировался немного с громоздким щитом. Никого, кроме нас, на арене не было: копейщики в большинстве своем еще приходили в себя после разгульной ночи.
— С гусятами это мы зря затеяли, — посетовал Галахад, гулко ударяя в мой щит древком копья.
— Отчего бы зря?
— Вырастут — хлопот не оберемся. Гусь — птица злющая.
— Чушь, — отмахнулся я. — Гусь — птица вкусная. Тут нас отвлекло появление Гвидра: Артур требовал нас к себе. Мы неспешно зашагали обратно в город и обнаружили, что Артур отбыл во дворец епископа Эмриса. Эмрис восседал в кресле, а Артур, в штанах и рубахе, склонялся над огромным столом: на усыпанной опилками поверхности епископ загодя подсчитал копейщиков, оружие и лодки. Артур поднял глаза. Долю мгновения он молчал: помню, его седобородое лицо показалось мне непривычно суровым. Наконец Артур произнес одно-единственное слово:
Ознакомительная версия.