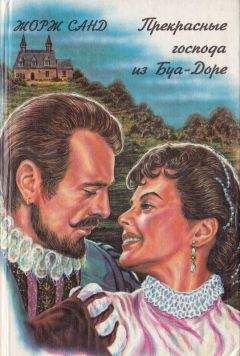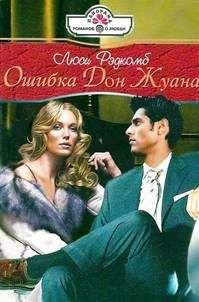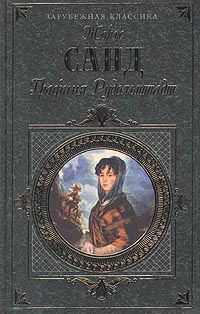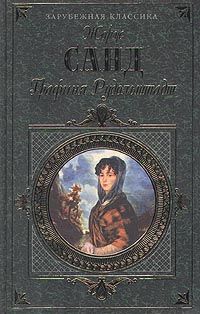— Считаю своим долгом, — продолжил он, — извиниться перед вами за невоспитанность моего друга де Бевра. Что может быть нелепей, чем религиозные споры, которые, к тому же, вышли из моды. Простите старику его упрямство. В глубине души де Бевра эти тонкости волнуют ничуть не больше, чем меня. Пристрастие к прошлому заставляет его иногда тревожить память мертвых, досаждая таким образом живым. Не понимаю, почему старость столь педантична в своих воспоминаниях, будто за долгие годы не повидала достаточно людей и вещей, чтобы философски глядеть на мир. Ах, расскажите мне лучше, мой дорогой гость, о людях Парижа, чтобы мы могли с изысканностью и умеренностью обсудить все предметы нашей беседы. Расскажите мне о дворце Рамбуйе, например! Вы, несомненно, бывали в голубом салоне Артенисы?
Ответив, что бывал принят у маркизы, д'Альвимар не погрешил против истины. Его ум и ученость открыли перед ним двери модного Парнаса. Но он не мог стать своим человеком в этом святилище французской вежливости, поскольку слишком быстро обнаружилась его нетерпимость.
К тому же литературные пасторали были не в его вкусе. Его снедало свойственное его времени честолюбие, так что пастораль, идеал отдыха и скромных развлечений, была ему ни к чему. Поэтому он почувствовал себя в плену усталости и сонливости, когда Буа-Доре, в полном восторге от того, что есть с кем поговорить, целыми страницами принялся пересказывать «Астрею».
— Что может быть прекрасней, — восклицал он, — чем письмо пастушки к своему любовнику: «Я подозрительна и ревнива, меня трудно завоевать и легко потерять, легко обидеть и трудно утешить. Мои желания должны стать судьбой, мои мнения истиной, мои приказы непреложными законами». Вот это стиль! А как прекрасно обрисован характер! А продолжение, продолжение! Не правда ли, месье, в нем содержится вся мудрость, вся философия, вся мораль, которая только нужна человеку? Послушайте, что ответила Сильвия Галатее: «Невозможно сомневаться, что этот пастух влюблен, поскольку он столь честен». Вы понимаете, месье, всю глубину этого утверждения? Сильвия объясняет это сама: «Ничего на свете влюбленный так не желает, как быть любимым; чтобы быть любимым, надо стать приятным, а приятным человека делает то, что делает его честным».
— Что? Что вы сказали? — встрепенулся д'Альвимар, разбуженный словами ученой пастушки, которые Буа-Доре вещал ему прямо в ухо, чтобы перекричать стук кареты по камням древней римской дороги, ведущей из Ля Шатра в Шато-Мейян.
— Да, месье, и я готов защищать эту мысль хоть против всего света! — горячился маркиз, не заметивший, как вздрогнул его гость. — Сколько времени я впустую твержу об этом старому вздорному еретику в области чувств!
— О ком вы? — переспросил ошарашенный д'Альвимар.
— Я имею в виду своего соседа де Бевра. Даю слово, он прекрасный человек, но полагает, что можно найти понятие добродетели в теологических книгах, которые он не читает, поскольку ничего в них не понимает. Я же пытаюсь внушить ему, что оно содержится в поэтических произведениях, в приятных и благовоспитанных рассуждениях, из которых любой человек, как бы прост он ни был, может извлечь для себя пользу. Например, когда юный Луцида уступает безумной любви Олимпии…
Тут д'Альвимар снова погрузился в дрему, на этот раз окончательно, а господин Буа-Доре продолжал декламировать до тех пор, пока карета и эскорт с тем же грохотом, как в ля Мотт, въехала на подвесной мост Брианта.
Было уже совсем темно, и д'Альвимар смог осмотреть замок лишь изнутри. Он показался ему совсем маленьким. В наши дни любая из комнат замка показалась бы нам просторной, но по тогдашним понятиям они считались чрезвычайно маленькими.
Часть дома, которую занимал маркиз, в 1594 году была разорена авантюристами и недавно отстроена заново. Это было квадратное помещение, примыкающее с одной стороны к весьма старой башне, а с другой к еще более древней постройке. Архитектурный комплекс вобрал в себя разнородные стили, но выглядел изящным и живописным.
— Не удивляйтесь, что мой дом выглядит столь скромно, — сказал маркиз, поднимаясь впереди него по лестнице, пока его паж и экономка Беллинда освещали им путь, — это всего лишь охотничий дом, холостяцкая квартира. Если мне когда-нибудь придет в голову мысль о женитьбе, придется заняться строительством. Но до сих пор я об этом и не помышлял; надеюсь, что поскольку вы тоже холостяк, вы не будете чувствовать себя в этой хижине слишком неудобно.
На самом деле холостяцкая квартирка была обустроена, меблирована и украшена с роскошью, которую трудно было ожидать, глядя на маленькую и низкую, украшенную виньетками дверь и узкий вестибюль, где начиналась пинтовая лестница.
Каменные плиты были устланы беррийскими шершавчиками (коврами местного производства), на деревянном полу лежали более дорогие ковры Обюссонской мануфактуры, а гостиную и спальню хозяина украшали дорогие персидские ковры.
Окна были широкими и светлыми, двухдюймовой толщины ромбы из неподкрашенного стекла были украшены выпуклыми медальонами с цветными гербами. На обивке стен были изображены очаровательные хрупкие дамы и красивые маленькие кавалеры, в которых, благодаря пастушьим сумкам и посохам можно было признать пастушек и пастухов.
В травке у их ног были вышиты имена главных героев «Астреи», прекрасные слова, сходящие с их уст, пересекались в воздухе с не менее прекрасными ответами.
В салоне для гостей панно изображало несчастного Селадона, который, грациозно извиваясь, бросается в голубые воды Линьона, который уже заранее пошел кругами в ожидании его падения. За ним несравненная Астрея открыла шлюзы, дав волю своим слезам[25], обнаружив, что прибежала слишком поздно, чтобы остановить своего воздыхателя, хотя его висящие в воздухе ноги находились на уровне ее руки. Изображенное над этой патетической сценой дерево, более похожее на барана, чем бараны фантастических лугов, тянуло к потолку курчавые ветви.
Но, чтобы не печалить сердце зрителя душераздирающей картиной гибели Селадона, художник на том же панно, совсем рядом, изобразил его уже лежащим на другом берегу, находящегося меж жизнью и смертью, но спасенного от верной гибели тремя прекрасными нимфами, густые волосы которых с вплетенными в них гирляндами жемчужин, волнами спускались на плечи. Из-под закатанных по локоть рукавов виднелся внутренний рукав, который сборочками шел до самой кисти, где его придерживали два жемчужных браслета. У каждой на боку был колчан со стрелами, а в руке лук из слоновой кости. Подобранные подолы их платьев обнажали высокие золоченые ботиночки до колен.