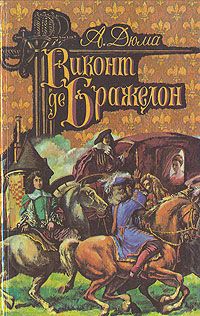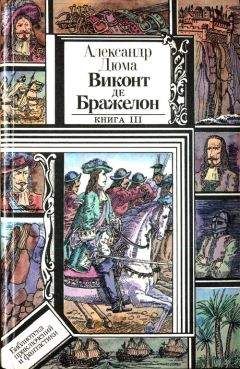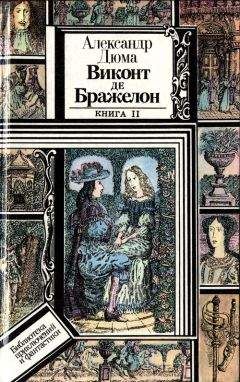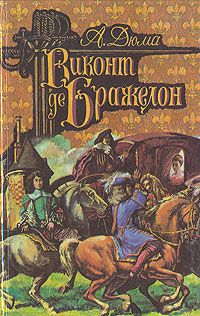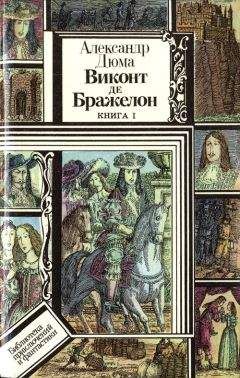— Ваше величество, — сказал Бражелон тихим мелодичным голосом, с той свободой и непринужденностью, которую он унаследовал от отца, — я не с сегодняшнего дня служу вашему величеству.
— О да! Вы хотите напомнить мне о происшествии на Гревской площади. В тот день вы действительно хорошо за меня постояли.
— Ваше величество, я говорю не об этом. Как я могу напоминать о столь ничтожной услуге в присутствии такого человека, как господин д’Артаньян! Мне хотелось напомнить о случае, который был в моей жизни важным событием и побудил меня с шестнадцати лет посвятить свою жизнь службе вашему величеству.
— А что же это за случай? — спросил король. — Скажите.
— Когда я отправился в свой первый поход и должен был присоединиться к армии принца Конде, граф де Ла Фер провожал меня до Сен-Дени, где покоятся останки короля Людовика Тринадцатого, ожидая преемника, которого, надеюсь, бог не пошлет ему еще долгие годы. Тогда граф предложил мне поклясться прахом наших властителей в том, что я буду служить королевской власти, олицетворенной в вас, государь, буду ей верен и в мыслях, и в словах, и в действиях. Я поклялся, и клятву мою услыхали бог и усопшие короли. За десять лет мне представилось гораздо меньше случаев, чем мне бы хотелось, сдержать свою клятву. Но я всегда был не более как солдат вашего величества и, переходя на службу к вам, меняю не господина, а только гарнизон.
Рауль умолк, поклонившись.
Он кончил, но Людовик XIV молчал, задумавшись.
— Клянусь богом, — вскричал д’Артаньян, — отлично сказано; не правда ли, ваше величество? Как хорошо, как благородно!
— Да, — прошептал растроганный король, сдерживая свое волнение, не имевшее другой причины, кроме общения с такой возвышенной, благородной натурой, как Рауль. — Да, вы говорите правду, всюду вы служите королю. Но, переменив гарнизон, вы получите повышение, которого вполне заслуживаете.
Рауль понял, что король ничего не хочет прибавить, и потому с присущим ему тактом поклонился и вышел.
— Вы собираетесь сообщить мне еще что-нибудь, сударь? — спросил король, оставшись опять наедине с д’Артаньяном.
— Да, ваше величество, это известие я отложил на конец, потому что оно печально и облечет в траур королевские дворы Европы.
— Что вы хотите сказать?
— Ваше величество, проезжая через Блуа, я услышал печальную весть.
— Право, вы меня пугаете, господин д’Артаньян.
— Мне ее сообщил доезжачий, у которого на рукаве был черный креп.
— Может быть, мой дядя Гастон Орлеанский…
— Ваше величество, он скончался.
— И никто меня не предупредил! — воскликнул король, оскорбленный тем, что ему не сообщили о смерти дяди.
— Не гневайтесь, ваше величество, — сказал д’Артаньян, — парижские курьеры, да и вообще никакие курьеры в мире не скачут так, как ваш покорный слуга. Посланец из Блуа будет здесь только через два часа, а он едет быстро, ручаюсь вам; я обогнал его уже за Орлеаном.
— Моя дядя Гастон, — прошептал Людовик, прижимая руку ко лбу и вкладывая в эти три слова самые противоречивые чувства, пробужденные воспоминаниями.
— Да, ваше величество, — философски заметил мушкетер, отвечая на мысль короля, — прошлое уходит.
— Правда, сударь, правда. Но у вас, слава богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным.
— Полагаюсь в этом отношении на ваше величество, — поклонился д’Артаньян. — А теперь…
— Да, правда. Я и забыл, что вы сделали сто десять лье. Идите, сударь, позаботьтесь о себе, ведь вы один их моих лучших солдат, а когда отдохнете, возвращайтесь ко мне.
— Ваше величество, и при вас, и вдали от вас я всегда к вашим услугам.
Д’Артаньян снова поклонился и вышел. Потом, словно приехав всего-навсего из Фонтенбло, он пошел отыскивать в Лувре Бражелона.
XXIX. Влюбленный и дама его сердца
В Блуаском замке горели свечи у безжизненного тела Гастона Орлеанского, последнего представителя прошлого. Горожане слагали ему эпитафию далеко не хвалебного свойства; вдовствующая герцогиня, забыв, что в юности она так любила покойника, что бежала из отцовского дома, теперь, в двадцати шагах от траурной залы, углубилась в денежные расчеты. Вообще жизнь в замке текла своим чередом. Ни мрачный звон колокола, ни голоса певчих, ни пламя свечей, мерцавшее за оконными стеклами, ни подготовка к погребению не смущали парочку, которая сидела подле уже знакомого нам окна; оно выходило во внутренний двор из комнаты, принадлежавшей к так называемым малым апартаментам.
Веселый солнечный луч (ибо солнце, по-видимому, мало беспокоилось о потере, понесенной Францией) падал на двух собеседников.
Он был юноша лет двадцати пяти, маленький, смуглый, с хитрым живым лицом и огромными глазами, затененными длинными ресницами; его большой рот часто улыбался, показывая прекрасные зубы, а острый подбородок обладал редкой подвижностью. Во время разговора он нежно наклонялся к молодой девушке, которая, надо сказать, не отстранялась от него с той поспешностью, которой требовали строгие правила приличия.
Девушку мы знаем, так как уже видели ее однажды у этого самого окна под лучами такого же яркого солнца. Лукавство сочеталось в ней с рассудительностью. Она была очаровательна, когда смеялась, и красива, когда становилась серьезной. По правде говоря, она чаще бывала очаровательна, чем красива.
Собеседники были увлечены каким-то полушутливым, полусерьезным спором.
— Скажите, господин Маликорн, — спросила девушка, — угодно ли вам наконец поговорить разумно?
— А вы думаете, это легко, Ора? — возразил Маликорн. — Делать то, чего от тебя хотят, когда нельзя делать то, что можешь?
— Ну, вы, кажется, запутались в словах. Бросьте, мой дорогой, прокурорскую логику.
— Опять-таки немыслимо: ведь я чиновник… И вы меня упрекаете за то, что я стою ниже вас… Итак, я ничего вам не скажу.
— Полно, я и не думаю упрекать вас. Скажите, что вы собирались сказать. Говорите, я этого хочу.
— Хорошо, повинуюсь. Герцог умер.
— Ах, боже мой, вот новость! Откуда вы явились, чтобы сообщить это?
— Я приехал из Орлеана.
— И это ваша единственная новость?
— О нет… Я могу еще сообщить, что принцесса Генриетта Английская едет во Францию, чтобы выйти замуж за брата его величества.
— Вы положительно невыносимы, Маликорн, с вашими допотопными новостями. Если вы не бросите своей привычки вечно насмехаться, я вас прогоню.
— Ого!
— Право, вы выводите меня из терпения.
— Ну, ну, потерпите.