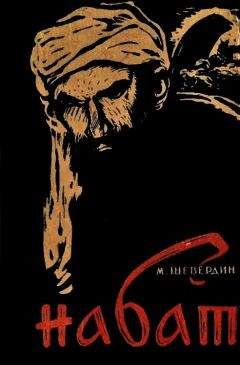Поддался я тогда. Предки меченосцы заговорили во мне. Честь! Благородство! Все чепуха. А теперь пуля в легком. Все пошло прахом… — Он раскрыл вдруг глаза. Интерес зажегся во взгляде. — Прекрасная кочевница… Проявляете милосердие, прекрасная дама… За зло дарите добро! Как это похоже на женщин! Меня продырявил ее папаша, а она мне чинит ребра… Сколько зла я тебе причинил, тебе и твоему сыну, прекрасная дама, а ты…
Он кривил губы. На них выступала окрашенная кровью пена. И Шагаретт брезгливо вытирала ее платком. Она наклонилась к Крейзе:
— Ты бредишь, немец. Ты болтаешь. Засни! — Слово «засни» она произнесла с яростью, вскочила и, схватив за руки Мансурова, зашептала: — Умирать змея выползает на дорогу… Змею нельзя лечить, змее отрубают голову. Отомсти ему за меня, за сына. Он прав — больше всех он причинил мне горя… И… тебе.
Крейзе услышал. Он приподнялся на локтях, выкрикнул:
— Эриния! Ты права. Таких, как Крейзе, не щадят… — Он упал на одеяло и пробормотал: — Поход Бонапарта… Наполеон… Разве все кончено?
— Конечно! Все для вас, аллемани, кончено. Аллемани — падаль.
Вдруг Шагаретт пнула ногой затихшего Крейзе, прежде чем Мансуров успел оттащить ее, вырвалась из его рук и выбежала.
Раненый тяжело дышал, но больше не открывал глаз. Многое надо было бы у него узнать, но Мансуров пошел по лесенкам и переходам в михманхану. Он осмотрел все, что нашли при Крейзе. В маленькой, крохотной записной книжке имелись записи — цифры и отдельные буквы готического алфавита. Личный шифр полковника Крейзе. Такие шифры разбирать труднее всего, и требуется очень много времени, чтобы его расшифровать.
Притеснение обращается в путы для притеснителя в обоих мирах.
Шамсэддин
Я не заслужил ада и недостоин рая. Бог знает, на чем ты замешал мою глину. Я подобен неверующему нищему и отвратительной блуднице. Не осталось у меня ни веры, ни мирских благ, ни надежды.
Омар Хайям
— Сюда нельзя! — Голос Шагаретт звучал глухо, резко. — Я колдую.
Умная, просвещенная Шагаретт колдовала. Все в комнатке, которую отвели великому вождю, старому Джемшиду, тонуло в сизо-зеленом, густо пахнущем чем-то пряным дыму. В угол забился старый Джемшид, с перекошенным, блестящим от пота лицом, с открытым ртом, с округлившимися от недоумения и ужаса глазами. Джемшид смотрел на стоявшую перед ним дочь и трепетал. Какая дочь. Пророчица, языческая жрица, вещавшая неведомые заклинания, поднявшая к потолку свои обнаженные прекрасные руки со светильником. Алексей Иванович не мог, не хотел уходить.
— Отец, прикажи ему уйти! — мрачно проговорила Шагаретт. — Волшебство для тебя. Пусть уйдет!
Стариковский лепет раздался из облаков дыма:
— Она — дочь хорошая! Сто звезд не равны одной луне. Уйди. Ты должен терпеть ее. Она общается с джиннами.
— Шагаретт, что вы тут все спятили?!
Со стоном молодая женщина воскликнула:
— Не мешай, кяфир! Здесь совершается таинство. Если любишь меня, уходи. Дай мне колдовскими словами убедить этого упрямца. Уходи, а то погибнешь.
Он невольно повиновался. Его напугал, поразил ее отрешенный, дикий вид. Не молодой красавицей, полной обаятельного и естественного кокетства, предстала перед ним в одуряющих клубах дыма Шагаретт, а бледной колдуньей, с зловеще блестящими черными глазами.
От этой колдуньи, ледяной, величественной и угрожающей, даже Мансуров отшатнулся. А она наступала на перетрусившего старого Джемшида.
— Ты украл мое отчаяние, сделал из моего горя воровскую отмычку! Мы, джемшидки, рабыни, рабыни отца, рабыни мужа. Но держим вас, слабых мужчин, под пятой таинственных сил, живущих в нашем слабом теле. Вы, джемшиды, торгуете нами, отцы — дочерьми, мужья — женами, но мы над вами. Помните, все в мире повинуется матери степи и пустыни! Женщина повелевает! — И, мгновенно сменив повелительный тон на упрашивающий, Шагаретт снова сказала: — Алеша, уходи! Дай мне просветить этого несчастного, жалкого, кто называется моим отцом.
Дым делался в комнате все плотнее. Фигура прекрасной джемшидки с поднятыми руками расплывалась, превращалась в зыбкую тень, чуть теплилось пламя светильников. Все глуше звучал голос.
— Призываю того, кто выше всех. Повинуйся. Куф-суф! Повинуйся! Слушай его слова!
— Остановись! Прекрати, дочь моя, я все сделаю, — голос старого Джемшида звучал слабо.
Имя вождя джемшидов окружала жуткая слава. Знали, что от него нечего ждать пощады. Впервые выдел Мансуров старого Джемшида слабым, беспомощным, во власти страха.
Все восставало в нем. Он думал, что знал хорошо Шагаретт. Он поражался ежеминутным переменам в ее настроении. Но сегодня… На ней, оказывается, двуликая маска: одна говорит «да», другая — «нет».
Он прошелся по верхней балюстраде, ему хотелось успокоиться. Огромные глиняные зубцы стен, предназначенные для укрытия стрелков, громоздкие башни, нависшие из тьмы, одинокий красный глаз костра далеко в степи уводили в дикость, в средневековье. Внизу на мощенном плитами дворе анахронизмом выглядели автомобили.
Мансурову чудился треск дров в гигантских очагах, плеск огней, пышащих вонючим дымом факелов, лай своры гончих, стон подстреленных джейранов в степи, скачущие в безумии охотничьей гонки охотники.
И вполне в тон звучали в ушах «куф-суф» и таинственные заклинания, колдовские заговоры волшебницы, пророчицы Шагаретт, пытающейся направить на путь истинный старого Джемшида, убедить его, а может быть, и припугнуть.
Скверно! Очень скверно. Мансуров ловил себя на желании войти в михманхану старого Джемшида, распахнуть двери и окна, выгнать зеленый дым, схватить за руку Шагаретт, вывести ее силой, как напроказившую школьницу, посадить вместе с сыном в машину и приказать Алиеву: «Давай газу!» Увезти и жену и мальчика в Ашхабад.
Он ходил по балюстраде размашистым, военным шагом и думал, думал. Звезды совершали круг над головой в темном небосклоне, снизу стлался едкий дымок.
«Моя пророчица всерьез решила заколдовать старика».
Сильна еще громада тьмы. Надвигается она неотвратимо на умы и чувства людей. И в звуках ночи Алексей Иванович вновь услышал скрип и тяжелое шуршание гигантских колес — тяжелых, медлительных, старых, таких старых, какие скрипели по дорогам Хорасана во времена Фирдоуси. Колесница судьбы ползла из ночи, судьбы неотвратимой, мрачной.
И хотя действительно мимо замка где-то во тьме скрипел обоз обыкновенных персидских арб — Мансуров сразу же понял это по возгласам и разговору арбакешей, — первое впечатление долго не проходило. Сколько уже лет он боролся с судьбой, сражался за сына, за Шагаретт, за их любовь, за семью! И все напрасно.
И все потому, что Шагаретт не хотела бороться с роком. Она покорно склонила голову перед колесницей Джагарнаута.
Оставалось вырвать ее из-под колес силой.
Он вслушался в шумы ночи. Тьма кралась бархатными лапами по степи. Ни