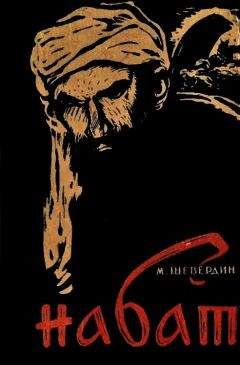Идемте. Утреннее угощение ждет нас, дорогой гость, любимый зятек!
Он не давал Мансурову сказать и слова.
— Какой воин, аллемани! Он полковник! И, о Али, надо же мне! Такой великий воин! Такой мудрый полководец! Кто определит день прилета ворон, кто разгадает тайные помыслы людей? Поистине он джахангир! Захвативший мир! Что вы там поете, господин Аббас?
Аббас Кули напевал негромко что-то о великом пахлаване — силаче и воине:
Я тот пахлаван, что в приступе гнева
Сидит на четверть в луже.
Я тот пахлаван, что в день битвы
Вонзает кинжал в чистую воду.
Я тот пахлаван, что разрывает зубами
Кожуру граната и обливается кроваво-красным соком,
Чтобы люди убедились — я пахлаван!
Над котлом плова разгоню войско мух.
Я — пахлаван! Сокрушительным ударом
Натыкаю вилкой лепешку в тандыре.
Я — пахлаван, в луже
Ковыряю грязь копьем Сиявуша, в мелкой луже!
Последние слова Аббас Кули пропел под аккомпанемент тара, прихваченного им в обширной пандждари — зале с пятью огромными, от потолка до пола, окнами-дверями, выходившими прямо в сад, припорошенный первым снегом. Неверный свет хмурящегося утра был вполне достаточен, чтобы судить о богатстве отделки и убранства помещения, выдержанного в вычурном стиле Альгамбры. Под стать резным шкафчикам и разрисованным павлинами и розами панно красочной вышивкой переливалась парадная суфра, уставленная посудой серебряной чеканки.
Вошедших встретил поклонами михмандор — дворецкий, древний восковой старичок:
— Пожалуйте. Здоров ли ваш желудок? Да процветает дом вашего слуги, господа!
Надо прямо сказать — дворецкий, или тот, кто распоряжался завтраком, превзошел все мыслимое и немыслимое.
— Не удивляйтесь, господин, — суетливо подскочил дворецкий к Мансурову. — Роскошь угощения потому, что это пагошэ — угощение в доме родственников в честь новобрачных. А потому прошу отведать вот этот восхитительный аджиль — его приготовила своими серебряными ручками госпожа Шагаретт из миндаля, поджаренных соленых фисташек, земляного ореха, фундука, гороха, тыквенных и дынных семечек. Аджиль превкусен. — И тут старичок, похихикивая своему остроумию, зашептал на ухо: — О, аджиль превосходно восстанавливает мужскую силу после ночи любви. Ничего не пожалела красавица Шагаретт в аджиль, даже лимонного сока добавила.
Тут только Мансуров обнаружил в конце суфры скромно сидевшую, завернутую с головы до пят в покрывало женскую фигуру. Значит, Шагаретт присутствует, значит, она не выпускает из рук бразды хозяйки дома. Значит, этот завтрак — несколько запоздавший шабчара, предрассветный пир, завершающий свадьбу. Подаваемое угощение — аджиль мушкиле гашта, устраняющее трудности, подается новобрачной своим родным, чтобы исполнялись их желания. А вот и Шагаретт заговорила, приветствуя появлявшихся один за другим гостей, — правда, среди них не оказалось джемшидов:
— Ветер появился, цветы принес! Каким добрым ветром вас занесло?
Чего только не было на суфре! И бесчисленные сорта халвы из тончайшей муки, замешенной на виноградном соке с миндалем и орехами, и полудэ — особое блюдо из тертых фруктов с сахаром, и оби софрани, и пашмак, и парижские конфеты, и выглядевшие нелепым анахронизмом сахарные головы в синей бумаге, и сушеные фрукты, и рахат-лукум… На дорогих блюдах возвышались горы плодов: апельсины, груши, виноград всевозможных сортов: и «аскери» — белый, круглый, приторно сладкий, и «сахопи» — розовый, и «фахри», — ягода которого величиной со сливу, «халили» — без косточек, и айва, и гранаты, и дыни, и грецкие орехи, и… Рука хозяйки открыла все мюршидские амбары и кладовые. Женское тщеславие! Слуги, особо приодевшиеся, шли вереницей. На блюдах они несли яхни — жареное мясо, приправленное гердгуре — острейшим порошком из сушеного незрелого винограда, жареную птицу, целого барашка, запеченного на камнях, и, наконец, венец персидской кулинарии — плов, окрашенный кориандром в оранжевый цвет, с фисташками, черным и зеленым изюмом и гранатовым соком. Чай подавался по-персидски — с сушеным лимоном.
Легкий завтрак больше походил на обеденное пиршество. Остался бы доволен самый взыскательный абдалботун — раб утробы. И у Алексея Ивановича снова возникли сомнения. Хозяева каа'лы растягивают угощение совершенно сознательно… Или вождь ждет своих джемшидов… Или он просто решил испытывать снова и снова терпение Мансурова… Или старается детскими хитростями заставить отложить отъезд…
Еще когда они шли через дворик, старый вождь покачал головой и с видом опытного автомобилиста начал сокрушаться: «Ох, развезет дорогу, колеса начнут буксовать».
Теперь он вдруг начал проявлять беспокойство по поводу своих всадников-джемшидов:
— Храбрецы! Не иначе, напугались погоды. Где-нибудь, ночью, как гончие собаки, нажрались бузы и дрыхнут. Боятся и нос на двор высунуть. Или, еще хуже, заехали в Баге Багу к этому опиумоеду Али Алескеру и накурились терьяку. Теперь и караван для моего сыночка не успеем снарядить, отправить на границу. Обо всем ведь позаботились: и верблюды не верблюды, а слоны, и караванбаши проверенный, дороги знает, и колокольца я приказал подвесить серебряные, и во вьюки весом по харвару все на дорогу сложили, даже баранину сушеную, ломтиками, столь любимую сыночком, и энтери — длиннополый кафтан я приказал положить запасной, где его уж там, в Советской стране, сумеют сшить, и войлочную накидку из козьего пуха от дождя и снега упаковали… И все теперь пропало. Дождь и снег сделали степь топкой. Грязь по колено. И джемшиды мои, собаки проклятые, не приехали. Кто составит охрану моему внуку, моему любимому наследнику? Мой внук может ехать только принцем, с караваном из двух десятков верблюдов, с охраной из ста вооруженных.
— Протянешь руку к кушаньям — и сразу отдернешь. У лицемера не поешь, — тихо пробормотал Аббас Кули. — Старый Джемшид столько говорит! У него язык оброс волосами. Сколько отговорок! Отговорки хуже греха. Душно у меня в груди. — И чтобы показать, что у него душа горит, он выпил пребольшую чашку обдуг — напитка из кислого молока. Вдруг вскочил, воскликнув: — Все это стежки иголкой по воде. Пока не поздно, уезжайте, Алеша-ага. А я их, бесстыжих, удержу.
Мгновенно перед ним возникло распухшее, все в мелких морщинках лицо визиря. Он ужасно походил на молодящуюся, бодрящуюся старуху, прожженную интриганку. Язык у него заплетался. Он что-то бормотал: «Куда едем? Зачем? Как едем? Нельзя… Гнев обрушится… Нельзя ехать. Не пустим».
— О, хвост идет за слоном! Ты что, подслушиваешь, безбородый! Лучше драка с тигром, чем ласка шакала. — Повернувшись к Мансурову, Аббас Кули тихо добавил: — Он прикидывается идиотом. Дом этот — ловушка.
Вдруг старый Джемшид вскочил и бросился к окну.
— Не поедет! — кричал он. — Не поедет. И караван не пойдет! Нет, нет, нет!
Выстрелы загремели так неожиданно и грозно, что