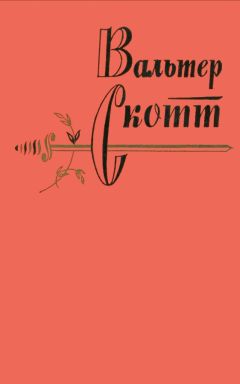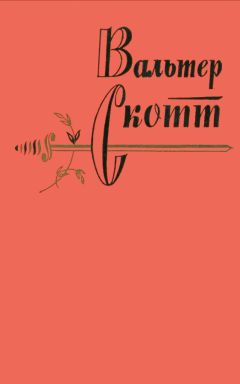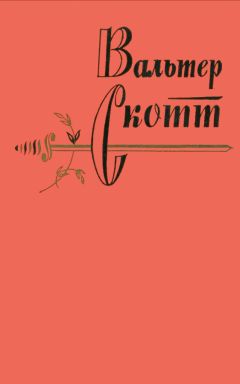«Не понимаю, — думал он, — для чего я навязал себе на шею эту сельскую Филлиду? Теперь мне придется выслушивать все её истерические измышления! Зачем мне нужна эта девица, чья голова забита добродетельными наставлениями её бабушки и библейскими изречениями, когда стоит мне только захотеть — и первые красавицы города бросятся в мои объятия? Жаль, что нельзя взойти на колесницу победителя, не одержав победы, которой можно было бы хвастать, хотя именно так, клянусь честью, поступает большинство нынешних кавалеров! Но подобный поступок недостоин Бакингема. Что ж, придется навестить её, — решил он, — хотя бы для того, чтобы от неё отделаться. Герцогиня Портсмутская будет очень недовольна, если я выпущу девицу на свободу так близко от Карла: она боится, что новая красотка соблазнит старого грешника и он забудет свою постоянную любовь. Что же мне делать с этой девицей? Держать её здесь я совсем не намерен, а отправить в Клифден в качестве экономки — нет, для этого она слишком богата. Да, придется подумать».
Он приказал подать себе платье, которое особенно оттеняло его выразительную внешность: это он почитал своим долгом, но, за вычетом сего обстоятельства, он отправился засвидетельствовать прекрасной пленнице своё почтение с полнейшим равнодушием, как дуэлянт, которого вовсе не интересует предстоящее сражение и которому нужно всего лишь поддержать свою репутацию человека чести.
Комнаты, отведённые для тех фавориток герцога, что время от времени оставались в его доме, но должны были жить там в полном уединении, как в монастыре, были отделены от всех остальных апартаментов его дворца. В тот век любовными интригами оправдывали самые жестокие, коварные и вероломные поступки, доказательством чему может служить трагическая история одной актрисы, чья красота имела несчастье привлечь внимание последнего де Вира, графа Оксфордского. Он ничем не мог победить её добродетели и прибегнул к ложному браку; несчастная умерла, узнав об обмане, а злодей был награжден единодушным восхищением остряков и светских волокит, заполнявших приемную Карла.
Для такого рода развлечений Бакингем отвел в глубине своего дворца особое помещение, и комнаты, куда он сейчас отправился, попеременно использовались то как тюрьма для сопротивляющихся, то как уютное гнездышко для покорных.
На этот раз помещение вновь служило для первой из названных целей. В передней, отделявшей эти апартаменты (их обычно называли женским монастырем) от остальной части дома, сидела, читая душеспасительную книгу, пожилая дама в очках и чепце. Она подала герцогу ключ. Эта многоопытная вдова играла в подобных случаях роль церемониймейстера и свято хранила тайну бо́льшего числа интриг, чем целая дюжина представительниц её ремесла.
— Самая милая конопляночка из всех, что когда-либо певали в клетке, — заметила она, отворяя дверь.
— Я боялся, Даулес, что она там не поет, а плачет, — сказал герцог.
— До вчерашнего дня или, скорее, до нынешнего вечера, ваша светлость, она и вправду беспрестанно рыдала; но теперь, слава богу, успокоилась, — отвечала Даулес. — Воздух в доме вашей светлости очень полезен для певчих птичек.
— Слишком скорая перемена, — заметил герцог. — Странно, что она примирилась с судьбой ещё до свидания со мною.
— Ах, ваша светлость обладает таким магическим очарованием, что его излучают даже стены вашего дворца. Как говорится в священном писании, Исход, глава первая, стих седьмой: «Оно липнет к стенам и к косякам дверей».
— Вы слишком пристрастны, миссис Даулес, — сказал герцог Бакингем.
— Это чистая правда, — возразила старуха. — Пусть меня назовут паршивой овцой в стаде, если эта барышня не изменилась даже в наружности с тех пор, как переступила порог вашего дома. Мне кажется, она стала легче, воздушней, тоньше, — я не могу хорошенько объяснить, но перемена есть. Впрочем, вашей светлости известно, что я так же стара, как предана вам, и становлюсь слаба глазами.
— Особенно когда промываете их из чаши с канарским, миссис Даулес, — пошутил герцог; ему было хорошо известно, что трезвенность не входит в число добродетелей старой дамы.
— Канарским? Неужели ваша светлость действительно полагает, что я промываю глаза канарским? — спросила оскорбленная матрона. — А я-то думала, что милорд знает меня лучше.
— Прошу прощения, — сказал герцог, с досадой освобождаясь от пальцев миссис Даулес, которая в порыве оскорбленной невинности вцепилась в его рукав. — Прошу прощения. Вы подошли ближе, и теперь я вижу, что ошибся: мне следовало бы сказать — нантским коньяком, а не канарским.
С этими словами Бакингем вошел во внутренние комнаты, убранные с неслыханной роскошью.
«Впрочем, старуха права, — думал гордый владелец великолепных покоев. — Сельская Филлида легко может смириться с такой клеткой, даже если нет птицелова, который приманивал бы её дудочкой. Но где же наша нимфа? Неужели она, как отчаявшийся комендант крепости, сразу отступила в свою цитадель, то есть в спальню, не сделав даже попытки оборонять внешние укрепления?»
Герцог прошел переднюю и маленькую столовую, обставленную мебелью редкостной выделки и увешанную превосходными картинами художников венецианской школы. За ними находилась комната для приемов, отделанная ещё более изысканно. Окна были затемнены цветными витражами таких густых и богатых тонов, что проникавшие в комнату полуденные лучи солнца казались отблеском вечерней зари и, по прославленному выражению поэта, «учили свет прикрываться тьмой».
Страсти и вожделения Бакингема так часто, так охотно и с такой готовностью удовлетворялись, что он уже не находил радости даже в тех удовольствиях, стремиться к которым было делом его жизни. Потасканный сластолюбец подобен пресыщенному эпикурейцу — ничто уже не возбуждает его желаний, и это само по себе становится наказанием за неумеренность. Однако новшество всегда несёт в себе очарование, а неопределенность — и того больше.
Герцог не знал, как примет его пленница, не знал, отчего произошла в ней внезапная перемена; кроме того, такая девушка, как Алиса Бриджнорт — насколько можно было судить по описаниям, — вероятно, будет вести себя в подобном положении иначе, нежели другие, и всё это весьма занимало Бакингема. Сам он не испытывал при этом ни малейшего волнения, какое охватывает даже самого грубого человека, когда он идет на свидание с женщиной, которой хочет понравиться, и, разумеется, никакого возвышенного чувства любви, желания и благоговейного трепета, обуревающих влюбленного с более тонкой душой. Он, как говорят французы, был слишком blase[89] в молодости, чтобы сейчас испытывать страстное нетерпение первого, а тем более нежные восторги второго. Это чувство пресыщения и недовольства тем сильнее, что сластолюбец не может отказаться от погони за наслаждениями, которыми он уже сыт по горло, и должен вести прежний образ жизни хотя бы ради поддержания репутации или просто по привычке, забыв покой, усталость, пренебрегая опасностью в ничуть не интересуясь конечным результатом своих усилий.