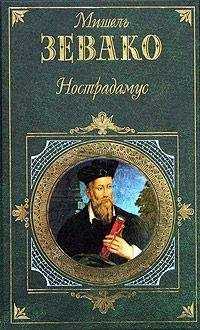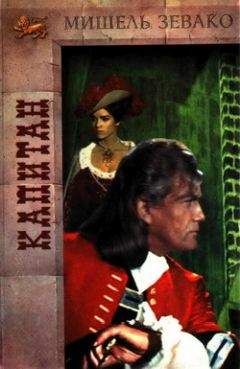Кто то из горожан подобрал два-три камня и протянул их Пикуику со словами:
— Вот завтрак для твоего зверя.
Пикуик взял камни, схватил Кроасса за загривок и поднес их к его рту.
— Внимание! — закричал он.
— Но это же не наши камни! — простонал несчастный Кроасс.
— Глотай, или мы пропали! — шепотом сказал Пикуик.
И он приложил к губам «животного» камень размером с яблоко.
— Глотай! — завопил он.
— Так что? Животное-то не ест? — закричала толпа, смеясь.
Кроасс закрыл рот и даже сжал зубы. Он отчаянно сопротивлялся. Еще бы, ведь эти камни не имели ничего общего с теми камнями из кишок животных, которые его заставлял глотать когда-то Бельгодер. В конце концов толпа начала их освистывать. И тут на Кроасса снизошло гениальное озарение:
— Я сейчас не голоден!..
— Надо было об этом сказать! — вскричал Пикуик. — Ах, обжора! Меня не удивляет то, что он не хочет есть! На дороге, ведущей в Орлеан, по которой мы шли ночью, вы не найдете ни одного камешка! Он их все сожрал!.. Благородные девицы! Господа! Смилуйтесь, не уходите! Мы вам сейчас покажем…
Но зеваки, пришедшие в ярость от того, что им не удалось поприсутствовать на завтраке, состоящем из камней, принялись собирать эти самые камни, и двое горемык поняли, что их вот-вот побьют. Один гвардеец закричал:
— Я сейчас заставлю его проглотить мою шпагу!..
Произошла жуткая давка. Кроасс ни жив ни мертв бросился бежать, за ним поспешал Пикуик, а позади с лаем несся пес. Через несколько мгновений все трое исчезли с Гревской площади. Они пришли в себя в одном из уголков пристани, где грузят зерно, у кромки воды; они сидели друг против друга и обменивались взаимными обвинениями.
Пикуик понял, хотя и несколько поздно, что без необходимых атрибутов (фальшивых камней, складывающихся сабель) невозможно заработать деньги, давая представления.
Теперь они решили попытаться заработать попрошайничеством. Для этой цели Пикуик вытащил из своих карманов «язву», «кровоточащую рану» и пару «глаз слепца». К несчастью, «язва» и «рана» сильно попортились за то время, что прошло с момента, когда предусмотрительный Пикуик положил их себе в карман. «Глаза слепца», однако, были в хорошем состоянии.
— Ну ладно, — сказал он, — ты будешь слепцом, а я — одноруким.
Затем, укрывшись за каким-то сараем, приятели преобразились: Кроасс стал слепцом, а Пикуик, как и намеревался, — одноруким. Для этого Кроассу оказалось достаточно наложить на надбровные дуги два кусочка искусно вырезанного пластыря, в котором были проделаны дырочки, позволявшие «слепцу» хорошо видеть; с внутренней стороны они были аккуратно смазаны клеем, а с внешней разрисованы таким образом, что напоминали глазные бельма. Благодаря подобному приему человек выглядел самым настоящим слепцом.
«Глаза», «язву» и «рану» Пикуик купил довольно давно в одной бойко торгующей лавке на улице Труз-Ваш.
Кроасс прикрепил к шее Пипо веревку, конец которой держал в руке. Что касается Пикуика, то он с помощью целой системы перевязок спрятал свою левую руку под камзол. Таким образом он превратился в одного из самых жалких одноруких инвалидов. Два наших приятеля, наспех снаряженные, принялись слоняться по улицам; Кроасс-слепец опирался на руку однорукого Пикуика, а скачущий, зевающий и смертельно усталый Пипо тянул за веревку.
Через каждые десять шагов Пикуик останавливался и стонущим голосом взывал к милосердию прохожих в следующих выражениях:
— Молю о милосердии, жалости и сострадании для моего товарища по оружию, ослепленному выстрелом из аркебузы прямо в лицо в битве при Вимори, где он сражался рядом с великим Генрихом де Гизом! Проявите сострадание и ко мне самому, которому гнусный безбожник из Наварры отсек руку одним ударом обоюдоострого меча во время битвы при Кутра!
— Ты разрываешь мне сердце! — говорил Кроасс, который, обладая неуравновешенным и бурным воображением, быстро дошел до того, что уверовал в свое участие в битве при Вимори.
— Увы! — пронзительно кричал Пикуик. — Неужто вы допустите, чтобы два верных защитника, два храбрых солдата великого Генриха умерли голодной смертью? Неужто я буду вынужден съесть ту единственную руку, что у меня осталась?
Кроасс плакал. Пикуик издавал такие крики, что можно было подумать, будто все нищие города являлись его учителями. Однако оттого, что люди были слишком озабочены своей собственной судьбой в эти дни волнений и тревог, и оттого, что они уже привыкли к многочисленным представлениям, подобным этому, они делали вид, что ничего не слышат.
К полудню двое несчастных великанов Бельгодера не получили ничего, кроме несколько раз сказанного «ступайте с миром!», что было весьма скудной пищей. Только к вечеру, когда они, уже полумертвые от голода, валились с ног от усталости, а головы у них от отчаяния шли кругом, они получили подряд три обола, два денье, ячменный хлебец и две сырые луковицы. Три обола и два денье кое-как обеспечивали завтрак на следующее утро. Луковицы и хлебец были с наслаждением съедены. Но когда они закончили свою трапезу у подножия каменной тумбы, где нашли временное пристанище, они вдруг заметил, что остались вдвоем: Пипо удрал!..
— Неблагодарный! — сказал Кроасс, издав вздох и подумав о той половине цыпленка, которую столь величественно пожаловал псу накануне.
Следующий день был для обоих нищих столь же злополучным, как и предыдущий. Через три дня такого существования Пикуик понял, что над ним довлеет страшный рок и что ему самой судьбой предназначено умереть с голоду. От него осталась одна тень. Что же касается Кроасса, то он, казалось, вытянулся вверх еще на целый фут.
Вечером четвертого дня, после того как они попрошайничали, умоляли, безуспешно пытались дать представление и показать свое искусство и еще более безуспешно пытались украсть выставленный на прилавок товар, изнуренные и доведенные до изнеможения, изнывающие от нищеты и отчаяния, они добрались до Монмартрских ворот в момент, когда те должны были вот-вот закрыться. Поскольку Париж наводил на них ужас, они вышли за город, уселись у какого-то дуба и заплакали. А вернее, Кроасс плакал за двоих. Его бесконечно длинное тело, доведенное до крайнего истощения, растянулось у подножия дерева. Костлявые пальцы вырывали травинку за травинкой, а по щекам текли крупные слезы.
Что же до Пикуика, то он, сжав свои тонкие губы, грустно подергивал кончиком заостренного носа; суровые и внимательные глаза что-то напряженно выискивали.
— Желудь… — сказал он вдруг.
— Два, три… десять желудей, — сказал Кроасс, оживляясь.
И действительно, под дубом была целая россыпь желудей. Наши приятели принялись их уныло жевать.