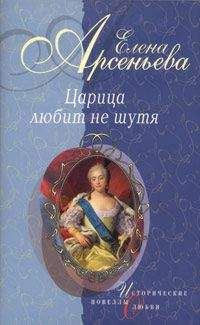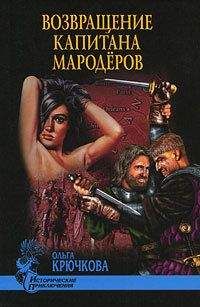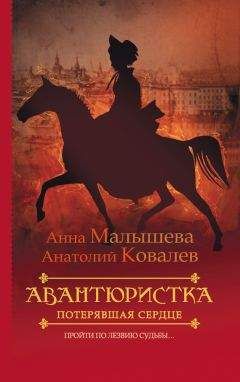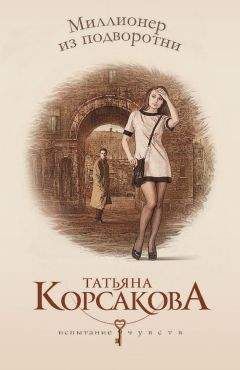— Ну что, душечки-голубушки, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора! Наш дом на Лубянке, говорят, не сильно пострадал…
— Ура! В Москву! В Москву! — закричала Лизонька, восторженно ерзая на руках отца.
— Лизетт, ведите себя, как подобает девочке вашего круга, — урезонила ее строгая мать.
— Маман, — обратилась к ней Наталья, с надеждой поднимая кроткие голубые глаза, в которых читалось очень много доброты и очень мало решительности, — мне тоже кажется, мы должны быть сейчас в Москве, вместе со всеми…
— А мне кажется, Натали, что ты слишком много стала себе позволять в последнее время! — возвысила голос графиня. — Когда говорят взрослые, дети молчат! Лизу извиняет хотя бы ее возраст, но тебе пора кое-что понимать!
— Зачем же так, Кати… — попытался защитить дочь Ростопчин, но яростный взгляд, которым его одарила супруга, лишил губернатора дара речи.
— Замолчи, Иуда, нехристь!
Многодневный обет молчания по отношению к мужу был нарушен. В этих словах, произнесенных на плохом русском, вместились все душевные мучения Екатерины Петровны, все ее посты и молитвы со времени исхода из Москвы. Граф под знаменем патриотизма и православия совершил чудовищные поступки, в ее понимании несовместимые с верой в Бога и любовью к Отечеству. Возможно, он и сам не понимает всей гнусности своего правления в Москве, но она, женщина набожная, не может с этим мириться. Графиня всегда отличалась резкостью в суждениях, но при дочерях старалась себя сдерживать. Сегодня она перешагнула эту грань, давая понять, что начался новый период в их семейной жизни.
Семейство замерло. Лиза, до смерти напуганная словами матери, крепче прижалась к отцу, из глаз побледневшей Натальи брызнули слезы и со словами «Я не могу так больше!» она выбежала из комнаты. Софья же стояла прямо, вытянувшись как струна, и смотрела на отца с такой же откровенной злостью, как и мать. Ее тонкие брови дрожали, почти сойдясь у переносицы, черные глаза, обычно блестящие и лукавые, померкли от яростного чувства, сжигавшего девушку. В свои пятнадцать лет Софья уже обладала большей светской сдержанностью, чем старшая сестра, и если что-то ее задевало, посторонний наблюдатель едва ли мог это заметить. Остроумная и очень неглупая, она умела выждать момент и расправиться с противником меткой, порою очень яркой остротой. Об этой ее черте знали в свете, кое-какие словечки юной дебютантки уже повторяли, и мать с затаенной тревогой наблюдала за успехами Софьи в обществе. «Она или выйдет замуж блестяще, или не выйдет вовсе, — сказала как-то графиня мужу в минуту откровенности. — Такой характер — ничего наполовину… Одна надежда, что Софи понемногу выучивается держать себя в руках!» Однако сейчас эта выучка словно испарилась. Отец с трудом узнавал Софью — настолько преобразила ее миловидные черты страстная, идущая прямо из юного сердца ненависть.
— Это… это уму непостижимо!.. — только и вымолвил обескураженный граф, поставил на пол дрожащую Лизу, резко развернулся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.
На следующее утро он выехал в Москву без семейства.
В солнечный, морозный день у дома Шуваловых остановились расписные сани, по-купечески аляповатые, запряженные тройкой мужицких захудалых лошадей. Из саней вылез высокий мужчина в шубе на собольем меху, изрядно потасканной и побитой молью. Он с кряканьем расправил плечи, выгнул спину, размял одеревеневшие пальцы и чутко повел орлиным носом, будто хотел узнать, что готовили в доме на завтрак и что приготовят на обед. Потом хрипло окрикнул слугу:
— Илларион, выноси чемоданы!
Графиня Прасковья Игнатьевна Шувалова пряталась от французов в своем самом дальнем, вятском, поместье и, кажется, собиралась в нем перезимовать. Человек, которого к ней послал Макар Силыч, то ли застрял в дороге, то ли, доехав, ждал особых распоряжений графини — во всяком случае, вестей от барыни до сих пор не поступало. Впрочем, имея такого дворецкого, она могла не беспокоиться за свое имущество. Французский генерал, живший здесь во время оккупации, убегая, оставил много своих вещей, причем весьма ценных, и хозяйственный Силыч беззастенчиво присоединил их к барскому добру.
— Однако ты, братец, ловок! — хвалил дворецкого князь Илья Романович, топчась у жарко пылавшего камина в ожидании, когда прислуга приготовит для него комнату. Он опустился в заботливо придвинутое кресло и блаженно протянул к огню затекшие в санях длинные ноги. — Ты и сам целого состояния стоишь! Другой бы такой кусочек себе в карман положил, а ты все в барский… Не перевелась еще, видно, в людях совесть! Не верится даже… Такого слугу нынче днем с огнем не сыскать.
Илларион, стоявший за креслом хозяина, заметно надулся и недобро взглянул на Макара Силыча. Воодушевленный похвалой, дворецкий стал еще словоохотливей и между делом рассказал о молодом графе Евгении, который с друзьями офицерами останавливался на ночлег, а потом ушел с армией на Малоярославец. Узнав о гибели Елены Мещерской, граф, по словам дворецкого, всплакнул, но товарищи не дали ему пасть духом. Всю ночь просидели с ним у камина, прямо из бутылок пили токайское и мадеру и пели задушевные песни под гитару.
— Так граф был влюблен в мою племянницу? — поинтересовался князь, и маленькие его глазки при этом замаслились.
— Как же, ваше сиятельство! — удивился дворецкий. — Перед самой войной обручились. Неужто вы не знали?
— Значит, сестра не успела мне сообщить… Лето я провожу в деревне… — уклончиво ответил тот.
Илья Романович не собирался кого-либо посвящать в свои семейные тайны. По всей видимости, в доме Шуваловых не знали о его ссоре с Антониной Романовной. «Слава богу, только обручились! — подумал он. — А то пришлось бы тяжбу затевать. Нет, шутишь, брат, все мое, все!» Зажмурившись от удовольствия, он прижал подошвы меховых сапог к каминной решетке, за которой так приятно потрескивал огонь. Отогревшись, князь решил перейти к делу, ради которого приехал.
— А скажи-ка, братец, в доме после пожара не осталось ли каких ценных вещей или бумаг?
— Все сгорело, ваше сиятельство, кроме книг. Библиотека у Дениса Ивановича богатейшая!
— Так-то оно так, да кому нужны книги, когда люди без пищи и крова остались? — Говоря это, Илья Романович пронзил взглядом дворецкого, и тот вздрогнул. Князь хорошо разбирался в людях и видел, что Макар Силыч не из тех, кто упускает свою выгоду. Наверняка тот и Архипа послал в деревню не из чисто душевных побуждений. — Ты не таись от меня, любезный, — зловеще посоветовал он, понизив голос до хрипоты, — за службу я щедро вознаграждаю, а за воровство и вилянье…