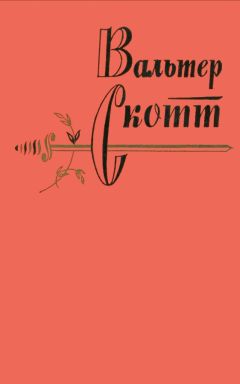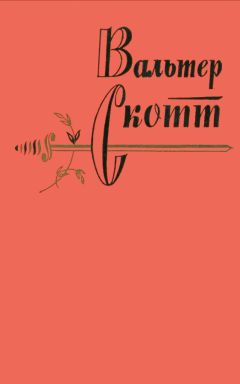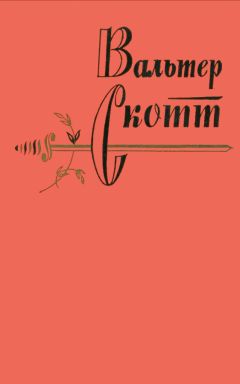Однако сэр Джефри Певерил в эту минуту был занят совсем другими мыслями; он не заметил всех этих любезностей со стороны карлика и сел на своё место с твердым намерением скорее умереть, чем проявить малейшую слабость перед круглоголовыми и пресвитерианами — этими уничижительными эпитетами он, будучи человеком слишком старомодным, всё ещё награждал людей, повинных в его горестном положении, не желая пользоваться более современными выражениями.
Когда сэр Джефри-большой сел на своё место, его лицо пришлось на уровне лица сэра Джефри-маленького, который воспользовался случаем и дернул его за рукав. Певерил из замка Мартиндейл, скорее невольно, чем сознательно, оглянулся и увидел покрытое морщинами лицо; желая одновременно выразить важность и быть замеченным, оно гримасничало на расстоянии ярда от него. Но ни странность этой физиономии, ни приветственные кивки и улыбки, ни карикатурный рост не вызывали у старого баронета никаких воспоминаний. Посмотрев с секунду на бедного карлика, он отвернулся и больше не обращал на него внимания.
Но Джулиан Певерил, не так давно познакомившийся с Хадсоном, и в горестном своём положении сохранил живое участие к этому крошечному человечку, своему товарищу по несчастью. Едва он узнал его, хоть и не мог понять, почему случилось, что они вместе предстали перед судом, как тотчас дружески пожал ему руку. Карлик принял это с напускной важностью и искренней благодарностью.
— Достойный юноша, — сказал он, — твоё присутствие в эту решительную минуту подобно целительному напитку Гомера. Жаль, что душа твоего отца не обладает такой живостью, какой обладают наши души, заключенные в меньшую оболочку. Он забыл старого товарища и собрата по оружию, который, вероятно, участвует теперь вместе с ним в последней кампании.
Джулиан коротко ответил, что отец его слишком занят другими мыслями. Но тщеславный человечек, которого, надо отдать ему должное, опасность и смерть беспокоили (по его собственному выражению) не больше, чем блошиный укус, не пожелал так легко отказаться от своего тайного намерения обратить на себя внимание почтенного и высокого сэра Джефри Певерила, ибо, будучи по крайней мере дюйма на три выше своего сына, этот достойный кавалер обладал несомненным превосходством над ним, а бедный карлик в глубине души ничего так не ценил, как высокий рост, хотя и не упускал случая вслух над ним поиздеваться.
— Старый товарищ и тезка, — сказал он, вновь протягивая руку, чтобы дернуть за рукав Певерила-большого, — я прощаю вашу забывчивость, — ведь прошло много времени с тех пор, как мы встретились при Нейзби, где вы сражались так, словно у вас столько же рук, сколько у мифического Бриарея.
Владелец замка Мартиндейл опять обернулся к карлику и прислушался к его словам, словно пытаясь что-то припомнить, а потом нетерпеливо прервал его: «Ну?»
— Ну? — повторил сэр Джефри-маленький. — Слово «ну» на всех языках выражает неуважение, даже презрение. И будь мы в другом месте…
Но к этому времени судьи уже заняли свои места, глашатаи потребовали тишины, и суровый голос лорда верховного судьи, пресловутого Скрогза, сделал выговор констеблям за то, что они позволили подсудимым разговаривать между собою в суде.
Следует заметить, что сия прославленная личность сама не знала, как вести себя в этом деле. Спокойствие, достоинство и хладнокровие были чужды ему как судье, — он всегда кричал и рычал на ту или другую сторону. А в последнее время никак не мог решить, чью сторону принять, ибо был начисто лишён беспристрастности. На первых процессах обвиняемых в заговоре, когда народ был явно настроен против них, Скрогз кричал громче всех. Любую попытку взять под сомнение показания Оутса, Бедлоу или других главных свидетелей он считал бо́льшим преступлением, нежели поношение евангелия, на котором они присягали. Он называл это попыткой замять дело или дискредитировать королевских свидетелей, иными словами — преступлением, почти ничем не отличающимся от государственной измены.
Но с некоторого времени новый свет озарил разум сего толкователя законов. Проницательный и дальновидный, он по верным признакам понял, что ветер начинает менять направление и что недалеко то время, когда и двор, и, возможно, общественное мнение обратятся против доносчиков и вступятся за обвиняемых.
До сих пор Скрогз считал, что Шафтсбери, сочинитель заговора, в большом почёте у короля, но однажды его собрат Норт шепнул ему: «Его милость так же силен при дворе, как ваш лакей».
Это известие, полученное из верных рук как раз в то самое утро, привело судью в большое смятение, ибо он ничуть не заботился о последовательности своих действий, но весьма настойчиво желал сохранить благопристойную форму. Он отлично помнил, с каким неистовством ранее преследовал подсудимых, и понимал, что, хотя доверие к доносчикам более здравомыслящих людей пошатнулось, их показания всё ещё сильно действуют на чернь, а потому ему предстоит играть очень трудную роль. На протяжении всего суда он походил на корабль, который намерен лечь на другой галс, причем паруса его, не успев ещё повернуться в нужную сторону, трепещут на ветру. Словом, он до такой степени не знал, чью сторону ему выгодней принять, что, можно сказать, в эту минуту приблизился к состоянию полной беспристрастности больше, чем когда-либо в прошлом или в будущем. Как огромный пёс, которому надоело лежать спокойно и не лаять, но который не знает, на кого ему броситься прежде, Скрогз обрушивался то на обвиняемых, то на свидетелей.
Стали читать обвинительный акт. Сэр Джефри Певерил довольно спокойно выслушал первую часть, где говорилось о том, что он отдал своего сына в дом графини Дерби, закоренелой папистки, с целью содействия ужасному, кровожадному папистскому заговору; в том, что он скрывал в своём замке оружие и амуницию; в том, что он действовал по поручению лорда Стаффорда, казненного за участие в заговоре. Но когда начали читать о его связях для этой цели с Джефри Хадсоном, некогда именовавшимся сэром Джефри Хадсоном, бывшим теперь или прежде в услужении у вдовствующей королевы, он взглянул на своего соседа, как будто только теперь вспомнил его, и вскричал с досадой:
— Эта наглая ложь не стоит и минуты внимания! Я мог встречаться и беседовать, совершенно, впрочем, лояльно и повинно, с моим покойным родственником, благороднейшим лордом Стаффордом — я буду и впредь именовать его так, несмотря на его несчастья, — и с родственницей моей жены, достопочтенной графиней Дерби. Но можно ли поверить, чтобы я стакнулся с дряхлым шутом, которого я знаю только потому, что на одном пасхальном пиру играл на волынке мелодию, под которую он плясал на потеху гостям на особом маленьком столике?