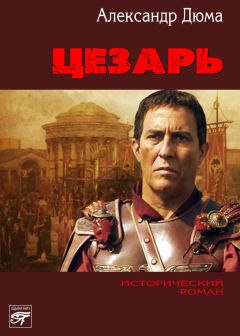Катон заставил сенат раздать народу хлеба на семь миллионов, и народ встал на сторону сената. И, тем не менее, если бы Катилина остался в Риме, его присутствие могло бы перевесить эту замечательную раздачу.
Но народ редко принимает сторону того, кто покидает отечество; по этому поводу существует пословица.
Катилина покинул Рим.
Народ отверг Катилину.
Катилина отправился в Апеннины к своему легату Маллию; у него было там два легиона, от десяти до двенадцати тысяч человек. Он выждал один месяц.
Каждое утро он надеялся получить весть, что заговорщики осуществили свой план. Весть, которую он получил, гласила, что Цицерон велел удавить Лентула и Цетега, его друзей, а заодно и основных руководителей заговора.
– Удавить! – воскликнул он; – разве они не были римскими гражданами, и разве закон Семпрония не гарантировал им сохранение жизни?
Несомненно; но вот аргумент, которым воспользовался Цицерон: «Закон Семпрония защищает, это верно, жизнь граждан; но враг отечества не может считаться гражданином». Аргумент, конечно, несколько субтильный; но недаром же он был адвокатом.
Войска сената приближались. Катилина понял, что ему ничего не остается, кроме как умереть; он решил умереть мужественно.
Он спустился с гор и встретил консерваторов, как мы назвали бы их сегодня, в районе Пистории. Бой был свирепым, схватка – ожесточенной. Катилина сражался не для того, чтобы победить, а для того, чтобы достойно умереть. Он плохо жил, но умер хорошо. Его нашли впереди всех его солдат, среди трупов убитых им римлян. Каждый из его людей пал на том самом месте, где сражался. Разве воры, убийцы и поджигатели умирают так?
Я думаю, что Наполеон на Святой Елене был прав, и что за всем этим кроется нечто, чего мы не знаем, о чем нам было неясно рассказано и о чем, следовательно, нужно догадаться.
Вот манифест мятежников, который передает нам Саллюстий; возможно, он прольет какой-то свет на эту загадку. Он подписан предводителем мятежников и адресован главе сената; глава сената был Кавеньяком своего времени.[16]
«Император,
Мы призываем в свидетели богов и людей в том, что если мы взяли в руки оружие, то вовсе не для того, чтобы угрожать нашему отечеству или нашим согражданам; мы хотим лишь уберечь самих себя. Мы нищи и разорены, алчность и жестокость наших кредиторов почти лишили нас отечества, честного имени и богатства. Нам отказывают в соблюдении древних законов; нам не позволяют отказаться от нашего имущества ради сохранения нашей свободы: так безмерна черствость ростовщика и заимодавца! В прошлом сенат часто испытывал сострадание к несчастьям народа и своими указами облегчал участь бедняков; уже в наше время родовые поместья были освобождены от применения к ним крайних мер, а всем честным людям было позволено заплатить медью то, что они задолжали серебром[17]; часто случалось и так, что народ plebs), обуреваемый честолюбивыми желаниями, или возмущенный оскорблениями со стороны магистратов, отходил от воли сената; но мы не просим ни власти, ни богатства, – этих главных причин вражды между людьми. Нет, мы просим только свободы, которую гражданин согласен потерять только вместе с жизнью. Мы молим тебя и сенат снизойти к бедам наших сограждан. Верните нам право воспользоваться законом, право, в котором нам отказывает заимодавец; не вынуждайте нас предпочесть смерть жизни, которую мы влачим, потому что наша смерть не останется неотомщенной».
Взвесьте этот манифест, философы всех времен; он имеет свой вес на весах истории; не напоминает ли он вам девиз несчастных ткачей из Лиона: Жить работая и умереть сражаясь?[18]
Мы уже говорили вам совсем недавно, что заговор Катилины на самом деле вовсе не был заговором; и вот почему его опасность, что бы ни говорил Дион, была реальной, серьезной, огромной; настолько реальной, серьезной и огромной, что она толкнула несмелого Цицерона на отважный поступок и на беззаконие.
Должно быть, в тот день Цицерону было очень страшно быть таким храбрым!
Разве Цицерон не бежал, когда можно было бежать? Разве он не бежал во время мятежа, поднятого против него Клодием, семь или восемь лет спустя? А ведь Клодий не был человеком масштаба Катилины.
Вернувшись из Фессалоники, Цицерон рассказывал, что на Форуме произошло столкновение. Противники осыпали друг друга оскорблениями, плевали друг другу в лицо. «Клодианцы стали плевать в нас (clodiani nostros constupare cœperunt); мы потеряли терпение», добавляет Цицерон. И было от чего! «Наши набросились на них и обратили их в бегство. Клодия стащили с трибуны; я улизнул, боясь пострадать в свалке (AC NOS QUOQUE TUM FUGIMUS, NE QUID IN TURBA)». Это не мои слова, а его собственные; он сам рассказывает об этом в письме к своему брату Квинту от 15 февраля (Q. II, 3).
Впрочем, если вы сомневаетесь, почитайте речь Катона. Он далеко не трус, но ему страшно, очень страшно; и больше всего ему страшно оттого (и он сам говорит об этом), и другим, должно быть, тоже страшно оттого, что Цезарь – Цезарь спокоен!
Цезарь спокоен, потому что если Катилина одержит верх, он достаточно воздал должное демократии, чтобы получить свою часть пирога; Цезарь спокоен, потому что если Катилина потерпит поражение, против него нет достаточно веских улик, чтобы обвинить его. Да и кто посмеет выдвинуть против него обвинение? Катон очень хотел бы это сделать, но он отступает.
Как раз во время этого столь бурного заседания, когда Катон выступал за суровость по отношению к заговорщикам, а Цезарь – за снисходительность, Цезарю принесли записку. Катон подумал, что это политическое послание, вырвал записку из рук гонца и прочел ее. Это было любовное письмо от его сестры Сервилии к Цезарю. Катон швырнул его ему в лицо.
– Держи, пропойца! – сказал он.
Цезарь поднял его, прочитал и ничего не ответил. Положение в самом деле было опасным, и не стоило усугублять его частной ссорой.
Но если Цезаря и не обвиняли публично, никто не огорчился бы, если бы какой-нибудь несчастный случай не избавил от него всех честных людей.
Когда он вышел, на ступенях сената его осадила толпа всадников, сыновей денежных мешков, ростовщиков, откупщиков, которые непременно хотели убить его.
Один из них, Клодий Пульхер – тот самый, который был разбит гладиаторами, – приставил свой меч к его горлу, ожидая только, чтобы Цицерон подал ему знак убить его. Но Цицерон подал ему знак отпустить Цезаря, и Клодий вернул меч в ножны.
Как! тот самый Клодий, который впоследствии, преданный всей душой Цезарю, станет любовником Помпеи и захочет убить Цицерона, этот же самый Клодий оказывается другом Цицерона и хочет убить Цезаря?