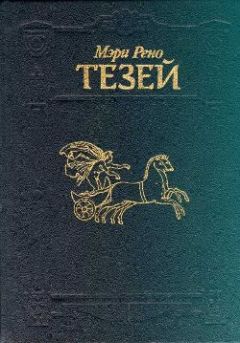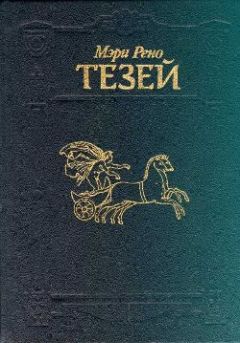Вершина была уже близко. Стрелы, камни и дротики летели тучей, но всё проносилось мимо меня, будто бог прикрывал меня своей ладонью. Я подумал: «Когда паду — эта сила, что бушует во мне, перельется в мой народ; их не обескуражит моя смерть.» И я любил их… Но не испытывал ненависти к врагам: ведь им пришлось вторгнуться сюда, как пришлось когда-то нашему народу… Их судьба была в руках богов так же, как наша…
Царь Дев опустила свой топор и потянулась за луком… Она целилась — и песнь бога вознеслась во мне как звук тысячи сладкозвучных рогов; я слышал в ней, что не покину Скалу и мой народ, что тень моя будет приходить к ним в великие дни радости и опасности, услышав их и пеаны и молитвы…
Лук выпрямился, я подумал: «Вот оно!..» Но удара не было — только музыка вдруг оборвалась, как обрезало ее, в голове звенело от тишины… И тут я услышал вскрик.
Золотой султан, что реял так легко и гордо, — падал передо мной, трепеща как подстреленная птица… Отгороженный богом, — уверенный в своей смерти, — я не заметил, как она бросилась вперед и прикрыла меня. Раскинув руки, она упала на колени, потом — я не успел подхватить — качнулась вперед — и опрокинулась на бок, перевернутая стрелой, торчавшей в груди.
Я встал на колени на острые камни, я обнял ее… Голос бога, ветророжденная легкость — всё исчезло, как счастливый сон утром жесткого дня. Ее глаза блуждали, уже ослепленные смертью, и только рука осмысленно искала что-то вокруг… Я взял ее в свою — ее пальцы сжались, а губы тронула улыбка.
Она хотела что-то сказать, — но только предсмертный вздох вырвался из раскрытых губ. Душа еще какой-то миг поддержалась на трепещущем дыхании… Но вот она резко дернулась, и дрожь прошла по ней, словно лопнула тугая струна… А потом отяжелела — и я понял, что она ушла.
Вокруг гремела битва, а я сидел над ней и ничего не видел. Я не заметил бы, если б все прошли мимо и оставили меня… Так волк лижет свою подругу, убитую охотниками, — ничего не слышит, не понимает… и если нечаянно подвинет ее, то ждет, что она вновь задвигается сама…
Но ведь я был человек и знал… Я видел, как она ускользнула втайне, чтобы обмануть меня с Аполлоном, чтоб уговорить его — любившего охотницу, — чтобы он позволил ей принять мою смерть…
Потом я услышал новый шум и поднял глаза к вершине холма. Мольпадия вновь подняла свой топор к небу, и победный крик амазонок был похож на дикий хохот…
И тогда я поднялся. Парни из ее гвардии стояли вокруг… И плакали… А мои глаза были сухи — много дней пройдет, прежде чем эта отрада облегчит меня… Я сказал им: «Оставайтесь с ней, пока я не вернусь». За ними стояли другие воины и смотрели на меня. Они были готовы, они поняли меня раньше, чем я сам; и я теперь почувствовал, — как чувствует это волк, — ничто не облегчит боль утраты, но ярость насытить можно.
Я вскочил на скалу, где меня было видно всем, и прокричал свой боевой клич.
Трижды прокричал я, — и с каждым разом ответный рев войска отзывался всё мощней, словно я взывал к морю. Я видел, как наверху опустились руки лучников и метателей, как они стали переглядываться… И бросился вперед.
Подъем по склону и на земляной вал — это я помню. Помню, как карабкался на стены, цепляясь руками и древком копья… И вот я уже там… Но с тех пор как начал убивать — мало что осталось в памяти. Знаю, что я не обнажал меча, — он был в ножнах чистый, когда всё кончилось, — но едва я поднялся наверх, в руках у меня очутился топор. Топор был хорош, он крушил всё вокруг, и это мне подходило. Я не смотрел, идут ли за мной мои люди; я чувствовал их — словно красные искры летели вслед моей ярости… Иди я прямо вперед — я бы их обогнал; но я не мог видеть живых врагов около себя — и рубил всех, и справа и слева.
Насытить жажду, гнавшую меня всё дальше, я не мог. Людей убивал, их кровь лилась по топору, и руки стали липкими… Но я не мог убить судьбу, богов — и то душераздирающее чувство, что я на нее зол. Зачем она вмешалась, когда все было так хорошо?!.. Она слишком много на себя взяла: мы были равны в бою, но царем был лишь один из нас… Я был в союзе со своей судьбой и уже видел свои последние дни как песню бардов… Нам не надо было расставаться; раз она относилась к смерти так легко — мы могли бы вместе перейти Реку к дому Гадеса… А она бросила меня одного, с моим народом у меня на шее — и без бога, который вел бы меня, чтобы быть мне царем, чтобы просто жить…
Душа моя кричала о мести, и я мстил, где только мог. Скоро на вершине Холма Пникса уже некого было убивать; я повел своих дальше, через седловину, на Холм Нимф… Они были на вершине, и я звал их на бой… Оттуда прилетело несколько стрел; но они дрогнули, и по их крикам стало ясно, что бегут. Позади меня люди кричали, что мы спасли город, но для меня было важно другое — слишком много их успеет спастись!.. Я споткнулся и упал, мой гвардеец помог мне подняться… Огляделся вокруг — вижу, скифы скатываются со склонов на равнину, а там их ждет десант с кораблей; но на следующем холме — вооруженное стройное войско. «Ну, эти от нас не уйдут!» — кричу — и к ним… Их вожак бежит впереди… Я — боевой клич, а он кричит: «Государь, это я!.. Кто-нибудь, посмотрите вместо царя, он не видит!.. Я Аминтор, Тезей! Мы победили!.. Но что с тобой, государь?»
Я опустил топор, и люди, державшие меня, расступились. В глазах прояснилось — передо мной была армия из крепости. Они обнимались с моими людьми, плача от радости… А я стоял, боясь очнуться, и вокруг говорили тихо, как над умирающим.
Кто-то сказал:
— Ему, наверно, попало в голову.
Другой возразил:
— Нет, не то… Где амазонка?
Это я понял и сам ответил:
— На Холме Пникса. Я отнесу ее домой.
Пошел было назад; потом остановился и говорю:
— Только сначала приведите мне Мольпадию, Царя Дев. Она передо мной в долгу.
Один из афинских офицеров, который в бою был возле меня, сказал, что она убита. Это мне не понравилось.
— Кто ее убил? — спрашиваю.
— Как же, государь!.. Ты сам, в самом начале, ее собственным топором… Вот он до сих пор у тебя в руках.
Я вытер его об траву и посмотрел. У него было тонкое древко, а лезвие — как изогнутый полумесяц, с серебряными знаками, зачеканенными в бронзу. Этот топор был у нее в руках, когда она скакала ко мне на вершине Девичьего Утеса… И в тот день всё время был со мной, будто чувствовал то же, что и я. С тех пор я не ходил в бой ни с каким другим оружием; даже годы спустя он, казалось, сохранял что-то от нее… Но всё проходит. Он забыл уже ее руку и знает только мою…
Она лежала на склоне, ее ребята стояли вокруг. Они распрямили ее и положили на щит… Но стрелу трогать не решились, а послали одного в крепость за жрецом Аполлона. Тот подтвердил, что она мертва, выдернул стрелу и накрыл ее алым плащом с синей подкладкой; а ребята положили ее руки на меч. Жрец обратился ко мне: