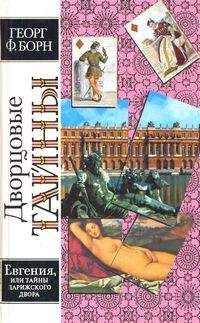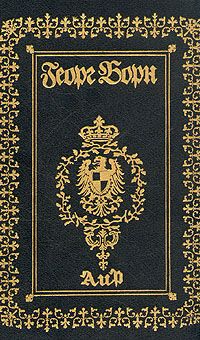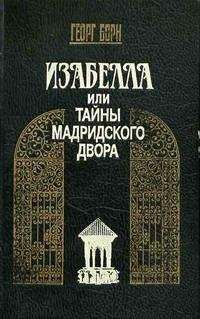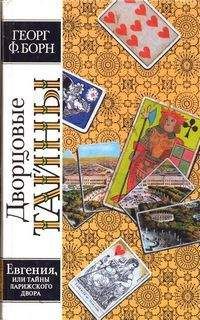Никто, кроме двух его друзей, не знал о его освобождении. Самые горячие желания Олимпио были исполнены, и последняя скорбь, угнетавшая Долорес, превратилась в великую радость, как будто небо хотело вознаградить ее неожиданной милостью за все перенесенные страдания.
Хуан, рассказавший маркизу все, что помнил о своем детстве, и упомянувший при этом имя «тети Долорес», признал наконец в отысканной Олимпио сеньоре ту самую, которая некогда любила его, как свое родное дитя. Это было радостное открытие! Рассказ Долорес о Хуане повел к тому, что мальчик был признан сыном Филиппо.
Сердечно связанный кружок праздновал это радостное событие, и Хуан казался всем как бы напоминанием о тех двух несчастных, которых соединила смерть. Мальчик остался у Долорес, и его-то мы видели на балконе в день Наполеона.
Олимпио и маркиз радовались своей счастливой судьбе, и Хуан привязался детским горячим сердцем к доброй тете Долорес, с которой доселе был так жестоко разлучен.
— О, Пресвятая Дева помогла нам и устроила все к лучшему, — говорила Олимпио Долорес, сидя около своего возлюбленного и глядя на мальчика, прижимавшегося к ней. — Будем ее благодарить!
Олимпио вторил ей, глядя своими блестящими от радости глазами на Долорес и Хуана. Он прижимал ее к сердцу, целовал в губы свою невесту и в лоб сына Филиппо, оставшегося сиротой и нашедшего себе в Долорес вторую мать.
Зависть Евгении была не безосновательной, потому что возлюбленная Олимпио была подобно ангелу. Не требуя ничего для себя и охотно во всем себе отказывая, она старалась, сколько могла, помогать бедным.
Мопа сообщил императрице совершенную истину, сказав, что эта иностранка была утешением несчастных; тайно, не требуя никакой благодарности, она с радостью отдавала все, лишь бы только облегчить чужую нужду и заботы. Олимпио должен был признаться себе, что небо было к нему милостиво, позволив ему снова отыскать это прекрасное, чистое, как ангел, существо.
Но Долорес желала большего. Она усиленно занималась с учителями, взятыми для нее Олимпио, и в скором времени, благодаря уму и разносторонним талантам, стала гораздо образованнее Евгении. Дочь графини Монтихо, достигнув сана императрицы, отличалась одним внешним блеском, тогда как Долорес получила прекрасное образование, которое вместе с красотой и добрым сердцем делали ее замечательной женщиной. Только теперь она стала жить полной жизнью, будучи окружена любовью Олимпио, которая согревала ее, как луч солнца! Когда он приходил к ней и шаги его раздавались на лестнице, она спешила к нему с открытыми объятиями; Хуан следовал за ней, чтобы также приветствовать дона.
Блаженные часы проводили они тогда и, полные блаженства, строили уже планы относительно вечного соединения. Они предполагали тогда поселиться вдвоем в отеле, в котором, благодаря заботам Олимпио, Долорес жила теперь. Все скорби и горести, казалось, миновали.
Но в это время случилось печальное событие, отдалившее их свадьбу; Олимпио не мог праздновать свои лучшие минуты в жизни, когда Клода постигла страшная скорбь — смерть маркизы; ее сумасшествие прогрессировало, и ни самоотверженный уход Марион, ни появление Долорес, не могли разогнать мучительных видений и картин, угнетавших Адель…
Маркиз стоял и молился перед телом покойной жены, избавившейся наконец от своих мучений; она жестокими страданиями искупила измену своей любви; но Бог оказал ей Свою милость и перед смертью, когда уже все ее силы были истощены, послал минуту, в которую она узнала Клода и успела проститься с ним.
Сердечная рана, нанесенная этой минутой маркизу, не могла никогда исцелиться. Его душе, высокой и ясной, была нанесена такая рана, что едва ли для нее было возможно счастье.
— Адель, — сказал он нежно, когда маркиза тоскливо протянула к нему руки, готовясь переселиться в вечность, — Адель, ты уходишь от меня; да будет забыто и прощено все прошлое. Ты переходишь в вечное блаженство, а я остаюсь здесь!
— Мы увидимся… вот… вот… меня озаряет чудный свет… я слышу звуки… Прощай… не произноси больше моего имени… Ты последуешь за мной… и тогда…
Адель смолкла, еще раз поднялась ее грудь, еще один глубокий вздох слетел с уст, и на ее лице отразилось то блаженство, которое она видела перед собой.
Клод встал на колени возле покойницы, — все было прощено!
Грешница избавилась от упреков и мучений совести, она унеслась в вечность, и он молился за ее душу…
Марион тоже преклонила колени; вечернее солнце осветило маленькую комнату, и последние красноватые лучи его упали на покойницу и на Клода, который поднялся со спокойным, задумчивым видом; ни одна черта его благородного лица не обнаруживала глубокого, несказанного горя; с верой и твердостью переносил он эту потерю, хотя его сердце было полно скорби, которая его более не покидала.
В тот день, когда Клод и Камерата похоронили маркизу, они совершили еще одно дело — отвезли бедную, оставленную Марион в дом одной вдовы, которая обещала о ней заботиться. Не сказав ни слова Марион, они отдали старухе сумму, которая обеспечивала девушку на всю ее жизнь.
Вскоре за тем обстоятельства призвали маркиза Монтолона к делу. Он, казалось, хотел забыть свое горе среди военных тревог и спрашивал своих друзей, желают ли они участвовать в разгоравшейся в то время войне с Россией. Камерата, разумеется, не мог встать в ряды войска под своим именем, он назвал себя Октавием, и никто не предполагал, кто скрывается под этим именем. Камерата с радостью шел на войну. Сражаться рядом с Олимпио и Клодом было его заветным желанием, и кто бы мог предполагать, что волонтер Октавий и умерший принц, которого Наполеон и Морни считали устраненным, одно и то же лицо!
Когда Олимпио пришел к Долорес, чтобы сообщить ей о новой разлуке, она грустно взглянула на него.
— Ободрись, моя бесценная, — сказал Олимпио. — Я вернусь, и мы всегда будем вместе! Не огорчайся этой короткой разлукой — мы снова увидимся…
— Нет, нет, Олимпио! Внутренний голос говорит мне, что эта разлука будет иметь тяжелые последствия.
— Предчувствия! Кто, подобно тебе, уповает на Бога, тот не должен бояться предчувствий!
— Ах, дядя Олимпио! — вскричал Хуан. — Вы, конечно, с маркизом отправляетесь на войну…
Олимпио посмотрел на двенадцатилетнего мальчика, глаза которого блестели и лицо сияло.
— Останься, не уезжай в чужие страны, не оставляй меня одну! — просила Долорес, ломая руки. — Я чувствую, что мы больше не увидимся.
— Ты наводишь страх и на меня, Долорес, чтобы обезоружить меня; если бы я знал, что более не увижу тебя, то, разумеется, не поехал бы.