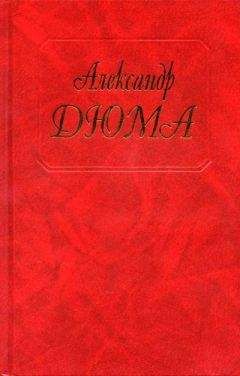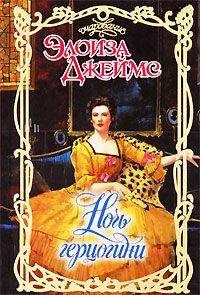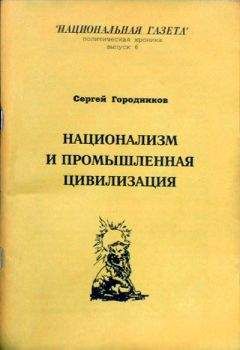— Ах, — блаженно вздохнул Лотарио, — зато я вернусь самое позднее через два дня.
Незнакомка поцеловала Фредерику в лоб, прошептала слова благословения так тихо, что нельзя было расслышать, и вышла из гостиной.
Фредерика проводила ее до калитки, и крестьянка вместе с Лотарио удалились, оставив Фредерику во власти того мечтательного, неясного волнения, какого не могло не заронить в сердце юной девушки это неожиданное сближение с очаровательным, элегантным молодым человеком, чье появление впервые нарушило привычное течение ее уединенной жизни.
Олимпия занимала апартаменты во втором этаже старинного особняка благородного и сурового вида, что находился на южной набережной острова Сен-Луи.
Войдя в ее покои, никто бы не подумал, что попал в обиталище актрисы. Здесь совсем отсутствовал дух новейшей легковесности, погони за самой последней модой, той, что родилась сегодня на рассвете, считается необходимой днем, а на следующее утро выглядит непозволительно устаревшей. Не было и нелепой роскоши, тяга к которой свойственна выскочкам, никакого особенного блеска и кокетства. Дверь из прихожей вела в столовую, обтянутую старинными гобеленами. Гостиная, сплошь отделанная дубом и украшенная резьбой, тут и там изображавшей розы и виноградные кисти, с потолком, расписанным Лебреном, гармонировала со строгой меблировкой.
Лишь большое черного дерева фортепьяно с золотой инкрустацией, стоящее напротив камина, могло напомнить о том, какой великой артистке принадлежат эти апартаменты; не будь его, никто бы и помыслить не мог, что здесь обитает певица, а не светская дама.
В то время, когда мы взяли на себя смелость ввести наших читателей в покои певицы, что произвела такое смятение в душах на балу у герцогини Беррийской, Олимпия в просторном пеньюаре из белого кашемира как раз находилась в гостиной и давала распоряжения ливрейному лакею.
Олимпии было, по-видимому, года тридцать четыре. Следовательно, она находилась в полном расцвете своей яркой и величественной красоты, которую еще более подчеркивал золотистый тон кожи, изнеженной жарким солнцем Италии. Ее ласковые глаза, глубокая синева которых порой казалась почти черной, в иные минуты могли вспыхивать, выражая сильное чувство и свидетельствуя о решительном нраве. За ее добротой угадывалась сила, за женственной грацией — мужская воля.
Рыжевато-золотистые волосы в роскошном и величавом изобилии венчали ее голову, словно пламенный ореол, и струились вдоль висков. Лицо поражало сияющей белизной, напоминающей матовый блеск светлого мрамора.
Руки, достойные императрицы, гордый и гибкий стан, да и все в облике этой женщины отличалось теми особыми признаками, какими искусство отмечает своих избранников, выделяя их среди людской толпы, — короче, наружность Олимпии стоила ее голоса и являла взору само совершенство, прекрасное и безмятежное, призванное пленять взоры так же, как и слух.
— И не забудьте, Паоло, — говорила Олимпия лакею, — когда вы передадите полторы тысячи франков мэру округа, а другие полторы тысячи — кюре собора Парижской Богоматери, зайдите на обратном пути к той бедной женщине, чей сын угодил в рекруты, и вручите ей эту тысячу. Мне говорили, что этого хватит, чтобы выкупить ее сына. И она не будет больше плакать.
— Сказать ей, что меня послала госпожа? — осведомился лакей.
— Это ни к чему, — отвечала Олимпия. — Просто, не называя никаких имен, скажите ей, что вы из предместья Сен-Жермен.
Лакей удалился.
Не успела дверь гостиной закрыться за ним, как две или три подушки, лежащие на широком канапе, придвинутом вплотную к фортепьяно, вдруг зашевелились. Олимпия обернулась и увидела, как из груды шелковых подушек высунулась черноволосая курчавая голова с весьма подвижной и странной физиономией, с черными глазами и белыми сверкающими зубами. Свернувшееся в клубок тело человека, на чьих плечах находилась эта голова, все еще было скрыто подушками.
Продолжая лежать и даже не изменив позы, это существо изрекло:
— Итак, дражайшая сестрица, ты по-прежнему совсем ничего не оставляешь для себя самой?
— Какого черта ты там делал, Гамба? — спросила певица.
— Вопросом на вопрос не отвечают, — настаивал странный субъект. — Госпожа герцогиня Беррийская возымела разумную идею попросить тебя спеть у нее на балу и приятную идею вознаградить тебя за это пение, послав тебе двести луидоров. Если из этих двухсот луидоров ты отправила полторы тысячи франков мэру, столько же кюре и тысячу старухе, я снова спрашиваю, что же осталось тебе.
— Мне, — строго отвечала Олимпия, — остались четыре строки, которые Мадам продиктовала и собственноручно подписала. Разве благодарность, подписанная такой рукой, не драгоценнее, чем две сотни жалких луидоров? Ну а теперь, когда я ответила на твой вопрос, изволь и ты ответить на мой. Что ты там делал?
— Я? — хмыкнул Гамба. — Э, черт возьми! Шпионил. Подсматривал за милосердными делами бескрылого ангела, в то же время упражняя гибкость бескостного человека. Когда ты неожиданно вошла в гостиную, мне как раз вздумалось немного поразмять мускулы и повторить кое-что из моих прежних кульбитов. Твое внезапное появление меня смутило, и, опасаясь быть застигнутым на месте преступления, то бишь шутовства, я зарылся в недра этого канапе, где бы и остался погребенным до твоего ухода, если бы не восклицание ужаса, которое исторгла у меня твоя добродетель.
Проговорив это, синьор Гамба проворно соскочил с канапе, одним великолепным прыжком достиг стола, за которым сидела Олимпия, и застыл как вкопанный прямо перед ней.
— Чудак! — улыбнулась она.
Он и в самом деле был странным, любопытным созданием, этот Гамба. Маленький, стройный, с тонкой талией и квадратными плечами, с шеей молодого быка — смесь хрупкости и мощи, порывистый, с узкими запястьями, с женскими пальцами и железной хваткой Геркулеса. Но что особенно поражало при взгляде на него, так это бросающееся в глаза несоответствие между его костюмом и манерой держаться. Было заметно, что его природная живость никак не мирилась с фраком и панталонами, и хотя он, конечно, носил панталоны с широкими складками, штрипки и подтяжки все же причиняли ему истинные мучения. Такую одежду носили все, но ему в ней было неуютно, а фрак придавал ему сходство с клоуном, загнанным в клетку.
Лишь одна деталь костюма Гамбы, должно быть, пленяла его фантазию южанина настолько же, насколько она бы шокировала нас с нашими ограниченными понятиями о хорошем вкусе: в ушах у него болтались два широких золотых кольца, и при каждом порывистом движении головы они слегка били его по щекам и своим сверканием усиливали блеск его глаз. Ничьи мольбы, никакие обстоятельства не могли бы принудить Гамбу отказаться от этого ослепительного украшения.