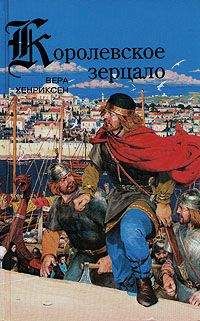Я сказал, что не имею ничего против поездки к епископу, что ему надо написать и что я могу сделать это сам.
Рудольф заколебался, но не посмел отказать в моей просьбе. Но он настоял на том, чтобы гонец отправился к епископу Эгину завтра утром, хотя до Далбю была неделя езды, а до Рождества осталось всего несколько дней.
Королева Гуннхильд согласилась с его предложением. И добавила, что даст мне письмо об освобождении сейчас же, но что объявлено об этом на тинге будет только весной.
Священник ушел, а Гуннхильд попросила меня принести пергамент и чернила.
— И возьми свои записи, — добавила она.
Я отсутствовал довольно долго.
Сначала я зашел в конюшню, к Уродцу. Он все еще лежал на сеновале, но его уже обмыли и распрямили. И рядом с ним были люди.
Я внезапно подумал — с неожиданной яростью, что рабы будут теперь часто так поступать. Они с удивлением посмотрели на меня, когда я встал на колени и прочел «De profundia». Я закончил молитвой за спасение душ умерших: «Requiescant in pace — отдыхайте с миром. Amen».
Лицо Уродца было спокойно.
Я подумал, что так могло выглядеть лицо Христа после распятия его на кресте, когда он сказал: «Свершилось!» — и испустил дух.
Мне пришлось прервать свои занятия.
Сначала ко мне в трапезную пришла королева Гуннхильд. Нам надо было о многом поговорить — ведь со времени нашего последнего разговора прошло много дней. А после вчерашнего вечера мы могли беседовать на равных.
Это был вечер больших изменений — прежде всего во мне самом.
Когда я зашел в трапезную после конюшни, чтобы забрать принадлежности для письма, то на скамье у стола сидел Хьяртан Ормссон, предводитель дружинников и ждал меня. Рядом с ним лежала одежда, позолоченная пряжка для плаща, пояс с ножом и меч. Хьяртан сказал, что это подарок королевы Гуннхильд за девять лет безупречной службы. Что это только часть того, что она должна мне.
В трапезной было холодно. Огонь в очаге не горел, а помещение освещал факел, что Хьяртан принес с собой.
Я разглядывал вещи. Королева подарила мне две рубашки, две туники, двое штанов и два плаща. Один из плащей был подбит мехом. Все вещи были очень красивые.
Я провел рукой по волосам. И внезапно почувствовал, какой я грязный. Я понял, почему не спешу переодеться.
Я повернулся к Хьяртану.
— Ты думаешь, я могу быстро помыться? И мне бы хотелось подстричь волосы и бороду.
Он кивнул.
— Пойдем в прачечную.
Я взял с собой одежду и оружие.
В прачечной для меня приготовили большой чан с горячей водой. Я испытал невыразимое удовольствие, когда снял с себя одежду раба Кефсе и погрузился в горячую воду. И не потому, что был особенно грязным, ведь я всегда старался следить за собой, насколько это было возможно для раба. Но именно это мытьё было для меня особенным ритуалом. Я невольно подумал о пути израильского народа через Красное море. Я посмотрел на свое покрытое шрамами тело. Красивым его назвать было нельзя. Но теперь оно принадлежало мне — после долгих десяти лет, когда оно было собственностью других. И я понял, какая разница между мной самим и моим телом. Тело могло принадлежать другим, а душа и мысли — только мне одному.
Выбравшись из чана, я замерз и поторопился натянуть на себя одежду. Мои руки отлично помнили, как надо опоясываться мечом, как закреплять пряжку на плаще, как откидывать его назад.
Одна из рабынь принесла расческу и ножницы и подстригла мне волосы и бороду. Я никогда не думал, что такие мелочи могут доставлять человеку громадное удовольствие.
Я встал и почувствовал, что даже двигаться стал теперь по-другому. И когда я протянул руку к мечу, все замерли.
Хьяртан при моем движении тоже потянулся к мечу — и не он один. Ведь никто не знал, что я за человек.
Мой меч оказался хорошим, но ничем не примечательным оружием. По старой привычке я надрезал левый мизинец и провел им по клинку. Нельзя достать меч из ножен и не дать ему испробовать крови.
Тут Хьяртан улыбнулся:
— Вижу, ты не хочешь оскорбить меч.
— Нет, — ответил я. — Ведь это было бы позором.
Затем мы с Хьяртаном направились в палаты, но во дворе я остановился и, склонив голову, повернулся к конюшне. Я думал об Уродце.
Никто из рабов меня не узнавал. Когда я здоровался с ними, в глазах у них появлялось отчужденное выражение, как всегда, когда к ним обращался незнакомый человек.
В палатах расставляли столы и накрывали к ужину.
Я заметил Рудольфа — он был чем-то недоволен и даже не посмотрел в мою сторону. Королева Астрид беседовала с Эгилем Эмундссоном, который недавно вернулся из Скары.
Но королева Гуннхильд смотрела прямо на меня. И только когда она нерешительно кивнула, я понял, что Рудольф меня просто не узнал.
Я подошел и поприветствовал ее — вежливо, но без подобострастия, как и подобает Ниалу Уи Лохэйну. Королева пригласила меня к столу как своего гостя.
Затем она попросила меня оказать ей услугу и написать одно письмо. Я ответил согласием.
Королева продиктовала мне письмо, в котором говорилось, что в течение десяти лет меня незаконно держали в рабстве и заставляли выполнять рабскую работу, но что я никогда не был по закону рабом и поэтому всегда считался свободным человеком.
Я посмотрел на сидящих за столом, когда королева подписывала письмо, и понял, что обо мне говорили в мое отсутствие. И что скорее всего это Эгиль Эмундссон, лагманн, посоветовал Гуннхильд так написать письмо.
За стол с нами сел и Хьяртан, но беседа началась только, когда мы приступили к еде. Я понял, что все, за исключением Хьяртана, знали, кто я, но скоро и Хьяртан понял, из какого я рода. И всем было известно, что именно я, а не Рудольф, записывал рассказ королевы Астрид.
Королева Астрид хотела прочитать мои записи. Я ответил, что будет лучше, если мы просмотрим их вместе. Она не возражала.
Тут все стали превозносить мои заслуги. Королевы буквально осыпали меня подарками — их было невозможно остановить. Астрид была в восторге, когда в разговоре выяснилось, что исландец Торд, научивший меня играть в тавлеи, по всей вероятности, был никто иной как Торд Колбейнссон, отец Сигвата Скальда. Эгиль Эмундссон хотел, чтобы я рассказал ему об ирландских законах. И только скромность заставляет меня воздержаться от повторения висы, которую Хьяртан сложил в мою честь.
Лишь Рудольф сидел за столом с кислой физиономией, как будто был моим владельцем, но не знал, как об этом напомнить другим.
Тем не менее королева Астрид рано пошла спать в тот вечер — она сильно устала.
Мне постелили в палатах, но я задержался за столом, раздумывая над письмом епископу Эгину. Вскоре я решил, что писать это письмо нет смысла. Все равно Рудольф все опишет, как ему захочется.