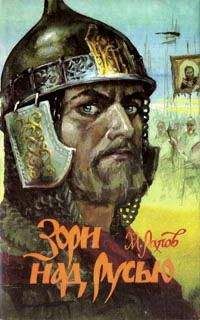долго жить. [3]
Уголками глаз Семка подметил: князь Дмитрий Костянтинович зело рад; Еще бы! Довольно сидеть в суздальском захолустье — дорога на великокняжеский стол [4] открыта!
2. ПОСОЛЬСТВО
И недели не прожил Семка в Суздале. Князь Дмитрий заметил его — парень смел, расторопен — и, посылая в Новгород Великий двух бояр своих, приказал Семке, вместе с десятком дружинников, ехать для охраны.
А Семке что? В Новгород так в Новгород! На княжной службе не худо, а почет выпал великий.
Как видно, парень спешил из Москвы недаром…
В тот день в Новгороде шел снег. Тяжелые, мокрые хлопья медленно кружились в воздухе, весь город был белый, пушистый. На мостовой, мощенной поперек улицы широкими, гладко тесанными сосновыми плахами, снег размесили ногами — он таял. Под копытами коней хлюпала вода, и дивно — большой грязи не было, видать, мостовые деньги при въезде взяли не зря.
Семка ехал, оглядывался по сторонам, присматривался.
Любопытно, конечно, посмотреть, как это народ живет по своей воле, нигде на Руси такого не осталось. Что говорить, город богат и многолюден. Совсем худых изб на улицах было мало, зато ни в Москве, ни в Суздале не видывал Семка таких хором боярских. Особенно приглянулись одни, парень даже коня приостановил, загляделся на высокие кровли, белые стены, резные по камню наличники окон. Все подворье под пышными шапками снега было седым, сказочным.
«Эх! Жить бы так–то вот! Да где там… За высокий тын боярской усадьбы не перемахнешь!»
Семка поскакал догонять своих, а в голове крутились тайные мысли, в каких парень сам себе боялся признаться.
«Ладно, Семен, ужо посмотрим, нынче ты вдруг нежданно–негаданно княжьим воином стал, а там, кто знает, может, и в эдаких хоромах жить доведется. Может статься, воеводой али боярином будешь, была бы молодецкая удаль, да голова на плечах, да удача!»
Улица кончилась. Встали тяжелые, сложенные из плитняка и булыги зубчатые стены Детинца — кремля новогородского. Из стены выдалась вперед каменная же башня с воротами под ней. Ров у стены затянуло льдом; мальчишки бегали по нему, задорно кричали, свистели пронзительно; тонкий лед потрескивал, а в двух местах был проломан, мелкие льдинки плавали в зеленой воде — видать, кое–кто из озорников тут успел окупаться.
Через ворота под Спасской башней выехали Пискуплей улицей на Софийскую площадь. Бояре остановили коней, поснимали шапки, крестясь. Семка, вытянув шею, рассматривал собор из–за боярского плеча.
Чем–то древним и мудрым веяло от этих могучих, лишенных украшений стен, над которыми в вышине за крутящимися хлопьями снега едва угадывались богатырские шлемы огромных куполов. Стали понятны недавно слышанные торжественные слова: «Где святая София, тут и Новгород…». [5]
Переехали площадь. За поворотом, совсем близко от собора, было богатое подворье боярина Василия Данилыча. Послов приняли честь честью, сам хозяин вышел к воротам, троекратно облобызался с боярами суздальскими, повел гостей наверх, крикнув челяди, [6] чтоб затопили баню, простых воинов–дружинников сажал за боярский стол! Это ли не честь?!
Когда же вечером, напарясь в бане, сытый и пьяный Семка спал на полатях, к архиепископу Моисею стали сходиться именитые люди Великого Новгорода. Василий Данилыч вошел вместе с послами, спесиво оправил на толстом чреве золотошвейный пояс, надетый по случаю сбора Совета господ, погладил холеную бороду, оглянулся на суздальцев и не спеша пошел ко владыке благословляться. Послы потянулись следом.
Боярин Лазута шепнул Онцифору Жабину:
— Ишь Василий–та, доволен!
Онцифор только бровями повел:
— Васька ловок, небось князь Дмитрий его услуг не забудет.
Завистливо поглядывали суздальцы на богатое убранство палаты, на затейливые кубки со столетними медами, расставленные по узорчатой парчовой скатерти, на серебряные подсвечники хитрой немецкой работы, а особливо на бояр, толковавших о их деле. Ну люди! Смелы и горды: силу свою знают. Чудно даже! О князьях говорят вольно, как о подручных своих, а на черных людей оглядываются, судят да рядят, что сказывать завтра на вече. [7]
— Придется исхарчиться на угощение своих уличан!
— Ладно! Дело обычное.
— Только уговор: вплелись в дело, потом не вилять, на вече стоять всем заодно.
— Не выйдет так–то: из бояр Михайло Поновляев единого озорства ради перечить почнет, из гостей торговых Микула да Ванька Усатой супротивничать примутся.
— Известно — московские доброхоты.
— Беда не велика — глотку им заткнут… я про то кое–кому словечко молвлю, — сказал посадник. — Вот только б Гюргий Хромый в спор не впутался, боярин млад, горяч, разума настоящего нету, говорит, что думает, народ его любит…
Владыка Моисей перебил:
— Не дело говоришь, Семен Ондреич! Юрья красным словом улестить надо: загорится парень, за суздальцев слово молвит — тогда дело верное; за Юркой Чудинова и Иворова улицы пойдут, да и во всех пяти концах Нового города друзья у него найдутся. — Архиепископ обвел оком совет: — А сказать такое слово должон ты, боярин Василий, ты всю кашу заварил, да и говорить красно ты умеешь.
Час поздний. На дворе непроглядная ночная тьма, видно лишь, как ветер швыряет мокрые хлопья на круглые заморские стекла, из которых набраны окна. Белые комочки снежинок, освещенные изнутри, из палаты, свечами, тотчас же тают, исчезая бесследно. Но и свечи горят тускло
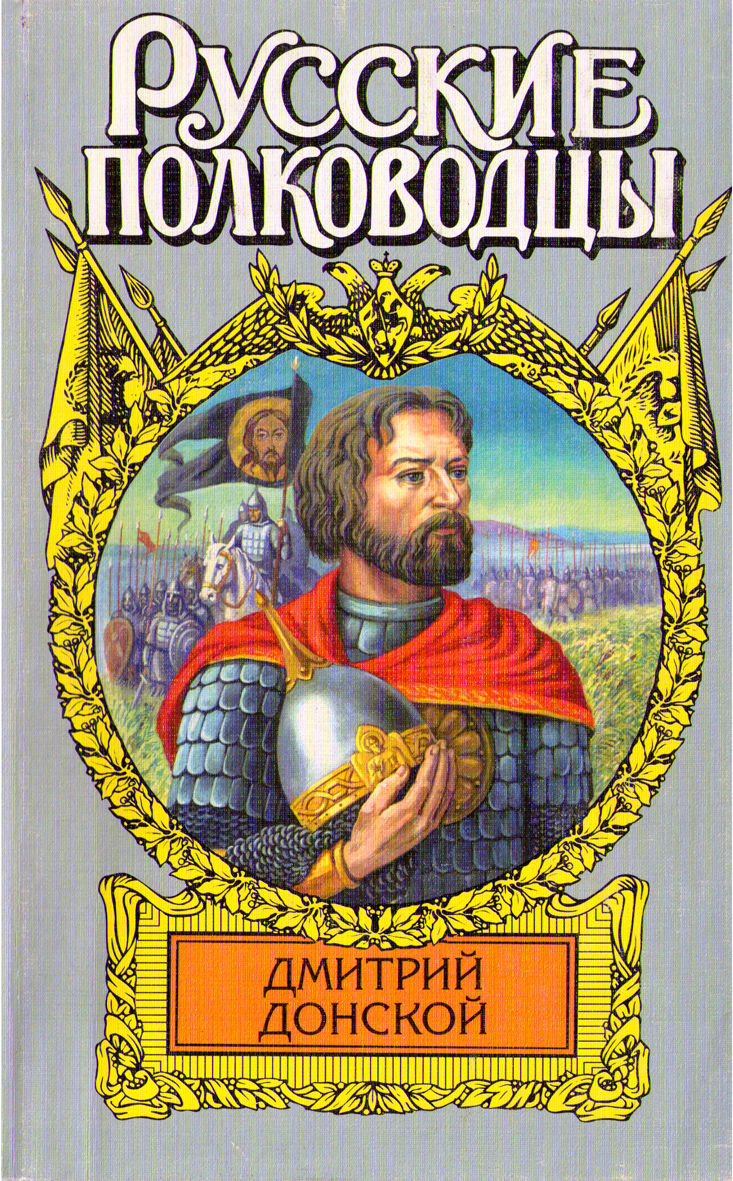


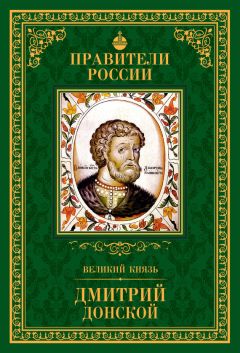
![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](https://cdn.my-library.info/books/37088/37088.jpg)