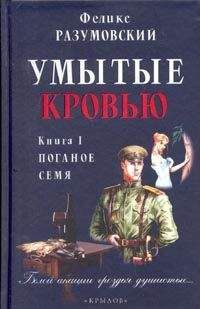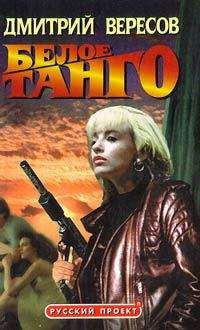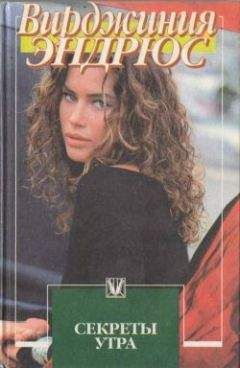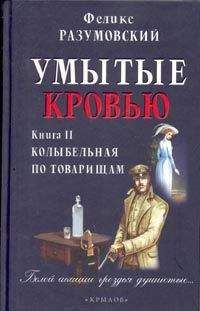– Да, снег идет. – Зотов сбросил с плеч реглан и, кряхтя, принялся стягивать сапог. «Прописать ее надо, завтра позвоню Строеву, он сейчас паспортный стол курирует. Уж всяко здесь не хуже, чем в совхозе среди зверья. Пусть будет при внуках».
Он размотал байковые, накрученные поверх носков портянки и удовлетворенно хмыкнул – ноги были сухие. Хорошие у него сапоги – с накатом, шитые из добротной кожи, по спецзаказу. Лучшей обуви для непогоды не придумать.
– Ты, Павел Андреевич, где обедать-то будешь? – Дарья Дмитриевна, не спрашивая, забрала у него портянки и, распахнув дверь ванной, швырнула их в грязное белье. – У себя или со всеми? Борщ сегодня украинский, с пампушками.
Во фланелевом халате, перевязанном крест-накрест оренбургским платком, она была похожа на пулеметчицу и ни секунды не могла стоять на месте. Достала чистые портянки, повесила на плечики реглан и стала подтирать в прихожей – все-таки Зотов натоптал.
– Со всеми. – Он сунул ноги в тапки и, глянув на часы, направился к себе. Время было два тридцать пополудни. До обеда оставалось ровно полчаса, с этим у Дарьи Дмитриевны было строго.
В коридоре пахло нафталином и натертыми до блеска полами. Наборный, положенный еще до совдепа паркет тихо поскрипывал у Зотова под ногами. На стенах зеленели обои, по верху тянулись антресоли, а сам коридор изгибался дугой и заканчивался уютной, маленькой кухней. А куда больше? Слава богу, не коммунальная квартира, на одну семью. Гостиная, удобства, и всем по углу. Кабинет, спальня Насти и Бурова, где теперь жила Дарья Дмитриевна, комнаты Артема и Аленки. А еще была дверь в коридоре, ключ от которой Зотов хранил у себя. Она вела в прошлое. В комнату, где время остановилось. В шкафу там пылились кружевные, старинного покроя платья, на спинке стула висел когда-то сброшенный халат, и в неподвижном воздухе все еще витал запах смерти – едва различимый, отдающий горечью духов.
У двери в прошлое Зотов остановился. Захотелось войти, но, тронув бронзовую ручку, он передумал. Нет, прошлое не терпит суеты, да и настрой должен быть нынче праздничный. Ноблесс оближ[1]. Хотя какой там праздник, так, возможность показать, что все еще коптишь этот свет. С таким сердцем, правда, коптить осталось недолго. Mortem effugere nemo potest[2]. Как бы торжество не перешло в похороны, а застолье в поминки. «Да, настрой праздничный». Зотов закурил и, стараясь не стучать тростью, похромал дальше. Из комнаты Аленки не доносилось ни звука – спала или читала, зато Артем громыхал железом по полу, наверняка катал подаренный танк, и страшным голосом кричал: «Бых! Бых! Ура! Победа!»
«Бурый, батя его, тихим рос, молчуном. – Вздохнув, Зотов вытащил ключи. Отыскал нужный и, не сразу попав в скважину, отпер древний, давно не смазанный замок. – А потом каких громких дел натворил». Открыл дверь, вошел в кабинет и, щелкнув выключателем, сунул окурок в пепельницу.
Кабинет – это громко сказано, так, обычная комната пять на шесть. Шкаф, кожаный диван, письменный стол с креслом, в углу на тумбочке старый «КВН» с огромной глицериновой линзой перед крохотным экраном. Показывает, и ладно, все равно особо смотреть нечего – «Тишина», «Пиковая дама» да надоевшие всем физиономии Зиненко и Зубовой. Стену над диваном закрывал ковер, на нем красовалось с десяток клинков – хоть и не рубака Зотов, а толк в оружии понимал. Гордостью коллекции был «волчок», шашка с Кубани, без труда разрубающая гвоздь-двухсотку. Напротив ковра висел маузер-раскладка, на котором отливала серебром табличка с гравировкой «Тов. Зотову П. А. от ОГПУ СССР». Мощное оружие, проверенное. Прошивает насквозь, еще и в стенке отметины остаются…
«Спасибо, дружок, не подвел. – Зотов ласково погладил твердый бок кобуры приклада, и глаза его стали злыми. – Только Насте с Бурым уже не поможешь. И Аленке тоже. Испоганили девке жизнь». Ему вдруг захотелось пережить все это заново: не торопясь, спускать курок и наблюдать, как корчатся подонки в кровавой луже…
«Не убий и спасешь душу. – Справившись с переживаниями, он уселся за стол и сразу ощутил себя прежним Зотовым, уверенным, властным, волевым. – А иногда убьешь, и на душе становится легче».
Он вспомнил раскисшую прифронтовую дорогу. Четырнадцатый год, Галиция, осень. Под матерный лай и храп лошадей, щелканье кнутов и грохот канонады двигались обозы наступающей русской армии. С неба, не переставая, лил мелкий, занудный дождь и наполнял канавы по бокам дороги черной, холодной влагой. Насквозь промокшие, с мешками за спиной, солдаты месили грязь, медленно тащились тяжело груженные двуколки, и во всей этой толпе никому не было дела до пегой лошади с распоротым брюхом. Она лежала на боку в канаве и, скаля зубы, судорожно дергала ногой. Кровь бежала ручейками из раны и, дымясь, смешивалась с дождевой водой. Люди чавкали сапогами по грязи, скрипели колесами телеги, а лошадь все дергала ногой и никак не могла околеть. Пока Зотов не перерезал ей горло. Быстрым, коротким движением, чтоб умерла без боли.
«Да, на душе становится легче. – Открыв глаза, он откинулся на спинку кресла и ласково похлопал по истертым подлокотникам. – Ты как считаешь?» Кресло в ответ заскрипело. Раньше оно стояло в его рабочем кабинете и теперь напоминало старую собаку – натасканную, преданную и знающую свое место. Стол взят на память из того же кабинета, даже инвентарный номер цел. Вот здесь, с правой стороны, стоял телефон-селектор и подавались на подпись документы, а слева находилась смольнинская «вертушка» и горела бронзовая, с зеленым абажуром, лампа. Ее он брать не стал, пусть светит другим.
– Дед, обед. – В дверь негромко постучали, и на пороге появился Артем, стриженный, ушастый, чем-то неуловимо напоминающий Бурого. – Время пошло, а то баба Дарья объявит наряд вне очереди.
Он учился в только что открывшемся кадетском корпусе, называвшемся теперь Суворовским училищем, и считал себя заправским военным.
– Кому это объявит? – Зотов усмехнулся и погладил мальчика по вихрам. – Мне, что ли?
– Тебе объявишь, как же! – Артем хитро прищурился, и уши у него покраснели. – Ты же генерал. Мне объявит! А ты можешь ее сам, своими правами…
Он был одет в синий комбинезон с красными пуговицами и держался с достоинством – руки в карманы.
– Ладно, уставник, пошли. – Зотов поднялся и, защелкнув дверь, похромал вслед за суворовцем в гостиную.
Это была просторная, обставленная добротной мебелью комната. Посредине стоял овальный обеденный стол, ножки которого являли собой атлантов в миниатюре. Вокруг него выгибались резные, под цвет дивана стулья. Полстены занимал приземистый буфет, в стеклах горки отражались дверцы шкафа и дробились огни хрустальной, похожей на перевернутую елку люстры.