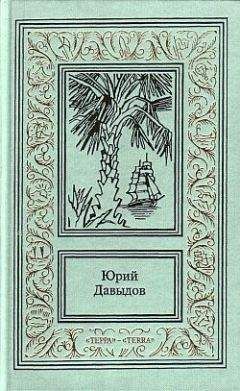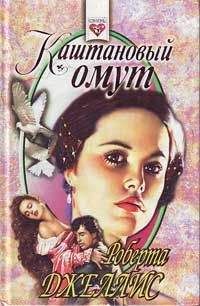Федор оглядел стол и пробормотал: «Ну, вроде наелся. А рабство, дорогой мой зять — я говорил тебе уже, сидел бы я на престоле царей московских, все было бы по-другому. Да только не видать его мне. Погоди, сейчас велю еще кваса принести и чернильницу с пером».
Сэр Роберт посмотрел на шурина и подумал: «А ведь и, правда — у него-то прав на престол больше, чем у Бориса, все же кровный родственник царя Ивана. А у этой Марии Старицкой — еще больше, жаль только, что никто не знает, где она. Да умерла, наверное, в первый раз, что ли, царь Иван свои обещания не выполняет?».
Федор закрыл дверь на засов и, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, — стал диктовать.
— И как ты это все запоминаешь? — собирая потом грамоты, удивился сэр Роберт.
Федор все не открывал глаз, а потом, чуть улыбнувшись, ответил: «Я, дорогой зять, могу все башни Белого Города начертить, — хоть сейчас. У меня с детства так, и у Стефана тоже. Ну, я же тебя водил в мастерскую к нему перед обедом, показывал иконы, что он сейчас пишет».
— Жалко, что только иконы, — грустно сказал сэр Роберт.
— Я его в Европу увезу, — пообещал Федор, — разберемся со всем этим, дай время. Завтра донесения отправляешь?
Сэр Роберт кивнул и улыбнулся: «Очень удобно, что все это через священников делается — что тут, что в Новых Холмогорах. Даже Семен Годунов, со всей своей проницательностью, — никогда не догадается».
— Ну да, — Федор выпил квасу и продолжил: «А то не хотелось бы рядом с тобой на плахе лежать, тем более, что Борис Федорович уже собирался меня туда отправить. И вот смотри, — смешливо добавил мужчина, — я знаю, что это по его приказу Митьку убили, ты это знаешь, — а все равно — для России лучше, чтобы Годунов на троне сидел».
Сэр Роберт помолчал и поднялся: «Отец нашего общего знакомого когда-то мне сказал:
«Ставь благо страны превыше своего». Ну вот, — мужчина помолчал, — так оно и получается, Теодор».
Проводив зятя, он постоял немного на крыльце, глядя на тонкий, золотистый серп луны. Где-то поблизости лаяли собаки, и меделянские кобеля, которых ночью выпускали на двор, вдруг тоже завыли. Федор поежился, и, поднявшись наверх, заглянул к сыновьям — те спали спокойно, Степан — положив щеку на свой альбом.
Федор улыбнулся и, осторожно вынув его, убрал в сундук.
Марья тоже сопела в колыбели — крепко, свернувшись в клубочек. Он перекрестил девочку, и, раздевшись, зевнув, устроился рядом с женой. Лиза повернулась, и, обняв его, прижавшись к нему всем телом, сказала: «Завтра спи, пожалуйста, до обеда, я детям велю, чтобы не будили тебя».
— Только если ты тоже никуда вскакивать не будешь, — рассмеялся Федор. «Покормить ее, — он кивнул на Марью, — отпущу, и все, поняла?».
Он уложил Лизу на спину, и, распуская каштановые косы, целуя ее везде, куда мог дотянуться, еще успел подумать: «Господи, уже и обратно через два дня. А ведь я так по ним скучаю, так скучаю».
Потом, когда Лиза, как была, обнаженная, потянулась за хныкающей Марьей, он устроил их обоих у себя в руках, и тихо сказал, глядя, как сосет ребенок: «Все будет хорошо, Лизавета.
Скоро все это закончится. Все будет хорошо».
Жена потерлась головой о его грудь и кивнула.
Он спал долго, обнимая Лизу, и, услышав стук в дверь опочивальни, открыв глаза, увидев яркое, полуденное солнце за окном, — помедлил одно мгновение. Потом он встал, и, услышав то, что ему прошептал старший сын, быстро одевшись, вышел во двор — надо было ехать в Кремль.
Ксения Борисовна Годунова подняла заплаканные, темные, красивые глаза, и, всхлипнув, перекрестившись, сказала: «Как же это будет-то теперь, матушка?».
Вдовствующая государыня, Марья Григорьевна Скуратова-Бельская, потрещала сухими пальцами, и, посмотрев на бледное лицо Ксении, проговорила: «А ты молись, дабы батюшка твой, Борис Федорович, в небесных чертогах упокоился, и дабы Господь мудрость твоему брату даровал — страной управлять».
Женщина пробежала рукой по алмазным пуговицам опашеня, и, поправив вдовий плат, подойдя к раскрытым ставням, посмотрела на пустой кремлевский двор.
— Как быстро, — подумала вдовствующая государыня. «С утра плохо себя почувствовал, потом кровь у него из носа пошла, а после обедни и преставился уже. Ах, Борис, Борис, на шестой десяток едва перевалил, и вот — нет тебя больше. А Федор ребенок еще, шестнадцати нет. И самозванец этот подметные письма рассылает, неровен, час, на Москву двинется».
Она перекрестилась и вздрогнула — низкая, изукрашенная золотом, резная дверь отворилась, и в палаты шагнул, пригнув голову, троюродный брат царя, Семен Никитич Годунов.
— Правое ухо царя, — кисло подумала Марья Григорьевна. «Борису он, конечно, предан был, а вот останется ли, верен сыну его?».
Семен Никитич оглядел женщин и коротко сказал: «Москва присягнула на верность царю Федору Борисовичу, вам, государыня Марья Григорьевна, и вам, царевна Ксения Борисовна».
Ксения, встав, — была она высокая, тонкая, с убранными под плат длинными, черными косами, — положила семипоклонный начал у икон.
— Государыня, — Семен Никитич указал глазами на боковую светелку.
— Иди, Ксеньюшка, — вздохнула Марья Григорьевна, — там Марья Петровна с дочкой, почитайте Евангелие за упокой души Бориса Федоровича.
Семен Годунов проводил девушку глазами, и, подойдя совсем близко к государыне, жестко спросил: «Вы зачем, из Лавры вернулись?».
Марья Григорьевна ахнула: «Так муж мой преставился, Семен Никитич, где ж это видано, чтобы вдова царя на похоронах слезы не лила?».
— Полили бы и обратно уехали, — Годунов подошел к окну. «А лучше бы, — губы боярина чуть искривились, — в Ярославль бы отправились, али на реку Шексну. Подальше отсюда, в общем».
— Вы же сказали, Семен Никитич, — темная бровь поднялась вверх, — что Москва нам на верность присягнула, так чего тут, — Марья Григорьевна обвела рукой палаты, — нам бояться?
Годунов раздул ноздри, и, сдерживаясь, тихо сказал:
— Как будто вы москвичей не знаете, государыня. Они ж как девка срамная, уж простите такие мои слова, — под того ложатся, кто сильнее, и у кого золота больше. Если там, — он указал на Красную площадь, — в набат забьют, и крови Годуновых возжаждут, — я вас, Марья Григорьевна, не защищу. Сами знаете, батюшку вашего, Григория Лукьяновича, не зря Малютой прозвали — не любили его на Москве. Да и вас не привечают.
Красивые губы Марьи Григорьевны изогнулись в презрительной усмешке:
— Никуда я от сына своего, законного царя Федора Борисовича, не уеду. Тако же и дочь моя.
А защитников у нас достанет, и без вашей помощи, Семен Никитич.