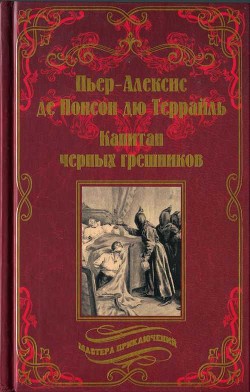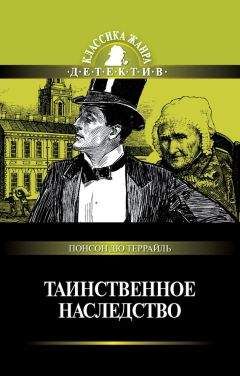Что же означала такая внезапная перемена?
Паромщик явно не собирался давать какие-нибудь объяснения, и гордость молодого барона была уязвлена его молчанием.
Впрочем, он, конечно, выбил бы Симона из его последних укреплений, но тут случилось неожиданное происшествие.
Издалека донесся звук.
То был корнет-а-пистон кучера дилижанса, спустившегося с Альп и остановившегося на том берегу Дюрансы.
— Простите меня, господин барон, — сказал Симон, которого звук рожка, казалось, обрадовал. — Служба есть служба, как говорится.
— Хорошо, — ответил Анри, — но когда вернешься — скажи мне…
— Вот что! — вдруг перебил его Симон. — Может, я вам покажусь не таким, как всегда, но это… сами знаете, почему…
И он выскочил на улицу, как будто последние слова обожгли ему гортань.
Впрочем, сделав несколько шагов по улице, он вдруг вернулся и с волнением в голосе произнес:
— Господин барон, имейте в виду: в карете на низ с кучером Гаво сегодня.
— Ну и что?
— Ежели не хотите, чтобы он вас увидал, подымитесь наверх ко мне в спальню, а то он обычно сюда заходит горло промочить.
Анри опять удивился:
— А почему ты не хочешь, чтобы Гаво меня увидал?
— Как угодно, — ответил Симон. — Дело ваше, не мое.
— Ты о чем?
— Вы мне разве не говорили, что лучше никому не знать о вашем возвращении?
— Говорил.
— Так поберегитесь, а то у него язык-то без костей, у Гаво.
И Симон наконец ушел.
Анри пребывал в растерянности.
Он был теперь вне закона, это правда, — но вне закона он был потому, что повиновался самому святому для себя долгу: потому что он, как дворянин, сражался вместе с героиней, явившейся отвоевать престол для своего сына.
Он был вне закона, но гордился собой, и ему казалось, что все лица навстречу ему должны расцветать улыбкой, все объятия распахиваться.
Поведение Симона было тем более странным, что он был католик, а значит — роялист, что он уже полгода должен был узнать от людей из замка Бельрош, что Анри благородно исполняет свой долг.
Молодой барон подошел к окну, выходившему на реку, и увидел сверху, как дилижанс, погруженный на паром, медленно пересекает ее.
Лишь когда барка пристала к левому берегу, он вспомнил совет Симона: "Если не хотите, чтобы вас видели, поднимитесь ко мне в спальню".
Спальней Симон называл, собственно, просто чердак, куда поднимались по приставной лесенке.
"А ведь Симон прав, — подумал Анри. — На него я могу положиться, но откуда мне знать, нет ли в карете жандармов, не объявит ли завтра в Эксе кучер-болтун всякому встречному о моем появлении? Говорят, скоро будет амнистия — но так ли скоро? Значит, Симон прав: надо поберечься".
И господин Анри де Венаск проворно взобрался в спаленку паромщика и сел на его кровати.
Пару минут спустя Симон вернулся, и Анри де Венаск услышал громкие голоса: в дом зашло сразу несколько человек.
На втором этаже домика паромщика только его спальня и была, внизу тоже только одна комната.
Между ними был только пол в одну доску, через щели которого пробивались лучи света.
Вместе с громкими голосами Анри услышал, как что-то то и дело громко, резко позвякивает.
Этот звук он тотчас узнал: то звенели стальные ножны сабли и шпоры на сапогах стучали по каменному полу.
Тогда молодой человек лёг плашмя и через щель в полу ясно увидел бригадира жандармов. Он уселся за стол вместе с Гаво, а Симон спустился в погреб за кувшином вина.
Анри был храбрым человеком: он с лихвой доказал это в героическом походе, столь трагически окончившемся арестом герцогини Беррийской.
Но безрассуден он не был и полагал, что истинная отвага избегает борьбы неведомой и безнадежной.
Поэтому он лежал неподвижно, поневоле вслушиваясь в беседу кучера с бригадиром жандармов.
Гаво говорил:
— Уж я-то кое-что верно знаю. Вот погодите, как только схватят первого из черных братьев, будут его судить…
— Мы затем сюда и явились, — сказал бригадир.
— Если меня вызовут свидетелем…
— Непременно вызовем.
— Уж я такое расскажу!
Несколько месяцев тому назад Анри получил письмо от тетушки: она действительно писала, что черные грешники вновь объявились, но никаких подробностей не сообщала.
Симон вернулся из погреба.
Анри через щель в полу углядел, как он сердито посмотрел на Гаво:
— Эге, язык-то у тебя больно длинный!
— Полиции все надо рассказывать, — заметил бригадир.
— Да если б он что знал! — сказал Симон. — Не знает он ничего.
— Ах, так? Ничего я, значит, не знаю?
— Ну, если знаешь, — миролюбиво сказал Симон, — так в суде и расскажешь. А теперь пей живей, пьяница, тебя пассажиры дожидаются.
И налил ему стакан вина.
Гаво залпом осушил его, встал и сказал:
— Так что, бригадир, вы тут останетесь?
— А как же! — ответил жандарм. — В шесть часов мы тут встречаемся с бригадиром из Венеля.
— Только у меня койки для вас не найдется, — сказал Симон, в большой тревоге глядя на потолок.
— Ничего, не надо, — ответил бригадир. — Я на столе улягусь да тут и вздремну чуток.
Гаво ушел.
Анри, все так же лежа плашмя на полу, увидел, как бригадир улегся на спину, положил саблю между ног, потом услышал, как щелкнул кучерский кнут, зазвенели колокольчики, застучали колеса…
Симон ходил туда-сюда по нижней зале и, казалось, не собирался идти к себе спать.
Бригадир уже закрыл глаза, а через десять минут звучный храп известил о том, что он спит.
Тогда Симон взобрался на чердак и убрал за собой лесенку.
При свете ручного фонаря он увидел, как Анри лежит на полу.
Симон поднес палец к губам и тихонько сказал:
— Слышали?
— Все слышал.
— Через два часа, — с тревогой сказал Симон, — здесь будет шестеро жандармов.
— Правда?
— Бежать надо, господин барон.
— Ничего страшного, — ответил Анри. Они же не меня ищут.
Симон ничего не сказал.
Он просто подошел к окну, бесшумно распахнул его, выставил лесенку наружу и сказал:
— Бегите, господин барон, скорей бегите!
— Да зачем?
— Не хочу, чтоб ваша гибель была у меня на совести, — продолжал Симон. — Вы уж где-нибудь в другом месте схоронитесь…
Анри его страх был совершенно непонятен. Но чувство такта не давало ему права настаивать. Он подошел к окну, перемахнул через подоконник и встал на лесенку.
— Прощайте, господин Анри, — сказал Симон. — Храни вас Господь!
Голос паромщика прозвучал глухо, как сдавленное рыдание.
IV
Едва миновала полночь.
Останавливаясь у Симона, Анри де Венаск сразу предупредил:
— В Бельрош я хочу явиться только за час до рассвета, чтобы Раймон уже встал. Он мне тихонько откроет и где-нибудь спрячет, а сам тем временем приготовит тетушку к моему возвращению.
А теперь Симон, по не зависящим от него обстоятельствам, выставил его на улицу задолго до условленного срока.
Голова у Анри горела, все в ней помутилось.
Почему же паромщик так холодно его встретил?
Почему он так перепугался и сказал: "Бегите! Завтра утром в доме будет полно жандармов!"?
Да, он сам сказал паромщику, что заочно осужден на смерть, но ничего особенно страшного в этом приговоре не было.
Он был вынесен военным трибуналом в Нанте не только ему, но и еще нескольким дворянам, больше других замешанным в мятеже, и все кругом говорили, что этот приговор будет отменен по амнистии прежде, чем арестуют первого осужденного.
Правда, Симону было известно только то, что рассказал ему сам Анри.
В родных местах никто не знал о его возвращении, а значит, никто не мог послать жандармов по его следу.
Поэтому Анри никак не мог объяснить себе поведение паромщика, эту смесь участия с отстраненностью.
Здесь была какая-то тайна, которую он напрасно стремился открыть, какое-то препятствие, непреодолимое для его ума и проницательности.