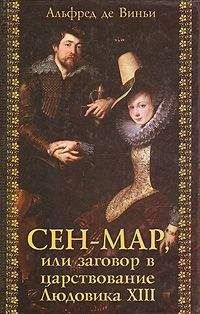Как только он выехал из Лудена, ему пришлось убавить шаг, так как лошади трудно было идти по песчаной дороге, сплошь в рытвинах, которые были полны воды. Дождь лил не переставая, и плащ молодого человека промок почти насквозь. Вдруг он почувствовал, что на плечи его лег какой-то более плотный плащ, — это старый камердинер подъехал к нему, чтобы по-матерински позаботиться о своем молодом хозяине.
— Ну, Граншан, теперь мы с тобой вдали от сумятицы, так скажи же, как ты там очутился? — обратился к нему Сен-Map. — Ведь я тебе наказывал остаться у аббата.
— А что ж, сударь, — ворчливо ответил старый слуга, — неужто вы думаете, что я больше послушаюсь вас, чем слушался господина маршала? Когда покойный мой хозяин приказывал мне не выходить из его палатки, а потом видел меня возле себя в орудийном дыму, он не жаловался, потому что под рукой у него оказывалась новая лошадь, если его бывала убита, и он бранил меня, только когда рассуждал спокойно. Правда, за все сорок лет службы я не видел, чтобы он делал нечто похожее на то, что вы наделали в течение двух недель, пока я нахожусь при вас. Да, — добавил он, вздыхая, — дела идут неважно, и если так -будет продолжаться, мне, видно, придется и не на такое насмотреться.
— Но пойми, Граншан, — эти негодяи превзошли всякую меру безобразия, и любой порядочный человек вышел бы из себя, как я.
— Исключая господина маршала, вашего батюшки, который никогда не поступил бы так, как вы поступаете.
— А как бы он поступил?
— Он преспокойно предоставил бы монахам сжечь их собрата, а мне бы сказал: «Распорядись, Граншан, чтобы лошадям задали овса и чтобы его не отнимали» или «Позаботься, Граншан, чтобы моя шпага не заржавела в нежная и чтобы в пистолетах не подмок затравочный порох». Потому что господин маршал все предвидел и никогда не вмешивался в чужие дела. Это было его главное правило, а так как он, слава богу, был столь же хороший солдат, как и полководец, то всегда заботился о своем оружии не хуже любого ландскнехта и никогда не бросился бы на тридцать молодцов с одной лишь парадной шпагой в руках.
Сен-Map вполне сознавал справедливость неуклюжих сетований старика и очень опасался, не последовал ли тот за ним и дальше Шомонского леса; но он не хотел касаться этого вопроса, боясь, что ему придется дать те или иные объяснения, или солгать, или же приказать слуге хранить молчание, а это означало бы, что он откровенничает с ним и в чем-то признается; он решил пришпорить коня и ехать на некотором расстоянии от старого слуги; но тот еще не высказался и, вместо того чтобы ехать справа от хозяина, перешел на левую сторону и продолжал разговор.
— Уж не думаете ли вы, сударь, что я, например, позволю себе предоставить вам ехать куда вам вздумается и не последую за вами? Нет, сударь, я слишком понимаю, как я должен чтить ее сиятельство, и вовсе не хочу, чтобы она мне сказала: «Граншан, мой сын был сражен пулей или ударом сабли, почему же ты не защитил его?» или «Какой-то итальянец ударил его стилетом, потому что он ночью отправился под окна принцессы из королевского дома. Почему же ты не задержал убийцу?!» Это было бы для меня, сударь, крайне огорчительно, и таких упреков мне еще никогда не доводилось слышать. Однажды его превосходительство маршал уступил меня своему племяннику-графу, чтобы я сопровождал его в поход в Нидерланды, потому что я знаю испанский язык. Так вот, я там, как всегда с честью, выполнил все, что от меня требовалось. Когда графу разворотило ядром живот, я один привел обратно его коней, мулов, привез палатку и все снаряжение, так что ни одного носового платка, сударь, не пропало; и могу вас уверить, при въезде в Шомон кони и сбруя были так же хорошо вычищены, как если бы граф собирался на охоту. Поэтому от всей семьи я услышал только похвалы и всякие лестные слева, а это мне всегда очень приятно.
— Все это отлично, друг мой, — сказал Анри д'Эффиа, — быть может, и я предоставлю тебе в один прекрасный день отвести домой моих коней, а пока что возьми эту большую мошну с золотом, которую я уже два-три раза чуть было не потерял, и расплачивайся за меня всюду. Мне это в тягость.
— Его превосходительство маршал так не поступал, сударь. Он одно время исправлял должность сюринтенданта, и поэтому деньги пересчитывал собственноручно, и, думается мне, у вас не было бы таких прекрасных поместий и не пришлось бы вам самим считать столько золота, если бы он поступал иначе; соблаговолите же оставить при себе мошну, содержание которой вы, вероятно, в точности не знаете.
— Что правда, то правда — в точности не знаю.
В ответ на пренебрежительное восклицание молодого хозяина Граншан тяжело вздохнул.
— Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство, когда я вспоминаю, как великий король Генрих у меня на глазах спрятал в карман замшевые перчатки, потому что они могли попортиться от дождя, когда вспоминаю, что господин Рони отказывал ему в деньгах, если он тратил чересчур много, когда вспоминаю…
— Когда ты вспоминаешь, то здорово надоедаешь, друг мой, — прервал его хозяин. — Скажи-ка лучше, что это за черномазая рожа шлепает по грязи у нас по пятам?
— Это, должно быть, какая-нибудь бедная крестьянка хочет попросить милостыни. Ей легко догнать нас — в таком песке лошади вязнут по колено. Когда-нибудь нам, чего доброго, придется побывать в Ландах — там вы увидите местность вроде этой: песок и черные-пречерные ели; но обеим сторонам дороги — сплошь кладбище. А вот вам и небольшой образчик. Теперь дождь прошел, стало повиднее — вот взгляните на эти заросли вереска и на огромную долину, в ней нет ни одного селения, ни одного домика. Где же мы переночуем? Да что толковать, позвольте мне нарубить веток, и сделаем привал, вы увидите, какой я мастер устраивать шалаш — в нем будет тепло, как в хорошей постели.
— Я предпочитаю добраться вон до того огонька, который светится на горизонте, — ответил Сен-Map. — Меня, кажется, познабливает, и очень хочется пить. Но ты немного поотстань, я хочу ехать один; отправляйся к остальным слугам и поезжай за мной следом.
Граншан подчинился и, в утешение себе, стал учить Жермена, Луи и Этьена, как ориентироваться на местности ночью.
Между тем его молодой хозяин изнемогал от усталости. Треволнения дня глубоко всколыхнули его душу, а долгое пребывание в седле, стремительность событий, при которых было не до еды, дневной жар, ледяной холод ночью, — все это вместе взятое подорвало его нежный организм: ему нездоровилось. Уже больше трех часов он ехал впереди своих слуг, а огонек, замеченный на горизонте, казалось, ничуть не приближался; в конце концов юноша перестал следить за светлой точкой, и его отяжелевшая голова опустилась на грудь; он выронил поводья, и теперь лошадь брела по большому тракту, предоставленная самой себе, а всадник, скрестив руки, отдался мерному покачиванию своего верного товарища, который не раз спотыкался о разбросанные по дороге камни. Дождь перестал, замолкли голоса слуг, их лошади понуро брели за лошадью хозяина. Ничто не мешало молодому человеку отдаться своим печальным мыслям, — он спрашивал себя, не будет ли ослепительный венец его упований так же ускользать от него в будущем, день за днем, как шаг за шагом ускользает фосфорический огонек, мерцающий на горизонте? Найдет ли в себе силы юная принцесса, которую почти принудительно приглашают к блестящему Двору Анны Австрийской, неизменно отклонять руки знатных претендентов, — быть может, даже королей? Есть ли основания полагать, что она решится отвергнуть трон и станет ждать, чтобы своевольная судьба помогла ей осуществить ее романтические надежды, извлекла юношу почти что из последних рядов армии и высоко вознесла его — прежде чем пройдет пора любви? Кто поручится наконец в том, что желания, высказанные Марией Гонзаго, вполне искренни?