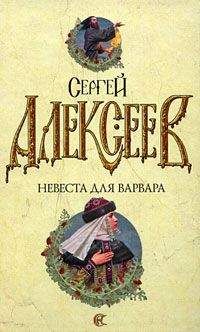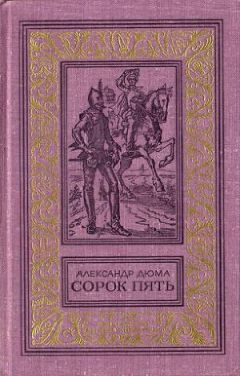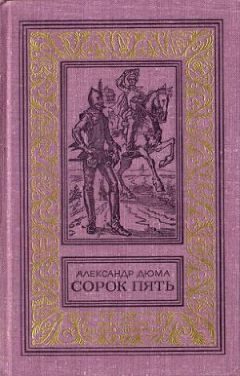— Не знаю, — признался Головин. — Появится охота — загляну, а нет, так и смотреть не стану… А ты, Яков Вилимович, и впрямь заложишь корабль?
— Только скажи, каков он быть должен!
— Для кругосветного важен ход, остойчивость, ну и оснастка… Более подходит трехмачтовая каравелла. Я в Петербурге уж чертежи припас…
— Так что же, по рукам? — окончательно воспрял граф. — Ты добудешь мне календарь, а я тебе корабль построю ко дню возвращения.
Капитан представил себе только что спущенную на воду каравеллу, однако безудержного счастья не испытал. Ударили по рукам: хоть такая отрада будет у него заместо Варвары…
В хоромах Тюфякиных все еще царил переполох, и сам князь был возмущен и гневен.
— Антихристовы дети! — восклицал он. — Се они чинят мне преграды! Узрели, почуяли снизошедшую благодать и вздумали расстроить свадьбу! Не бывать их воле, покуда держимся древлего благочестия, а Пресвятая Богородица держит над нами покров свой!
Пребывание в доме графа, сподвижника «антихристова сына», коим Тюфякин считал Петра Алексеевича, и даже иноверца, по разумению князя должно было остановить супостата. То есть, дабы защититься от сатаны, Василий Романович пустил в хоромы его слугу — обожженный расколом разум уже не повиновался князю. Головин осматривал следы своего ночного набега, кои указывал хозяин, а сам непроизвольно глядел по сторонам в надежде лицезреть высватанную невесту. Варвары же не было ни в хоромах, ни во дворе — как потом выяснилось, заперли ее в светелке и стражу с ружьями выставили.
Так следовало продержаться еще два дня, ибо невеста, выдаваемая в далекую иноземную сторону, по обычаю должна была проститься со всей родней, как прощались перед кончиной. Княжну, по сути, оплакивали, и оттого в доме обстановка напоминала скорее похоронную, нежели предсвадебную.
И в то же время родители готовили приданое и дары жениху: князь подбирал и складывал в дорожную суму требные книги и иконы, самолично засыпал порох в бочонки, рубил свинец, подбирал из старых запасов ружья, пистоли, ножи, колычи в дорогих оправах и даже харалужную сирийскую саблю пожертвовал будущему зятю. Бородавчатая же княгиня, быстро отошедшая от испуга, перебирала в сундуках ткани, шали и прочие женские драгоценности, чтобы дать сверх того, что уже положено невесте, — в Сибири, говорили бывалые люди, каждый клок холстины ценится. Они укладывали все во вьючные сундуки, закрывали их, но потом вновь отворяли, перебирали добро и что-то снова добавляли — пороху, икон, камки, серебра, парчи, шелка либо холстяных узорчатых полотенец. Если б прощание продлилось еще неделю, то родители наверняка сложили б в приданое скарб всего старого боярского дома.
Капитан так и не позрел на Варвару, покуда не настал час отъезда, когда уже нанятые подводы были загружены и санки Брюса запряжены. Невесту вывели под руки, укрытую покровом от чужого глаза, посадили в медвежью полость. А следом за нею — служанку Пелагею, девицу лет двадцати, заплаканную, красноносую, с малым узелком на руке.
— Отдашь замуж за доброго человека, — велел князь Головину. — Девка славная, работящая — в руках все горит. И воспитанная добро, ибо с малых лет в хоромах моих пребывает.
Граф, вооруженный заряженными пистолями, сел с ними в возок, а Ивашке подвели коня — того самого, серого в яблоках, на котором уходил от погони. Он вскочил в седло, поклонился тюфякинским домочадцам, взмахнул рукой, и обоз, сопровождаемый конной стражей князя, наконец-то тронулся в дорогу.
Все Тюфякины, пожалуй душ сорок с детьми и женщинами, еще долго шли следом, плакали, махали руками и платочками, а сам простоволосый старый князь размашисто накладывал крестные знамения…
Зимний путь становился хлябистым, снег на солнце стремительно плавился, лужи ночами замерзали, образуя раскаты, опасные для саней. Кони шли тяжело, однако Головин поторапливал возниц, дабы нагнать зиму в землях под Вологдой, кои прозывались Воротами Полунощи и где ждали их Тренка с товарищами да люди Брюса с обозом. Однако весна наступала скорее, ибо останавливались на ночные кормежки лошадей, и хотя рядились под купцов и ехали, не выказываясь, кто и куда, молва бежала впереди. На переяславской заставе караульные обоз досматривать не стали, однако подорожную спросили, а капитан по уговору с графом не хотел раньше времени показывать грамоту Петра Алексеевича, потому дал пять рублев серебром за пропуск на вологодскую дорогу. А уж на ярославской их ждали, и караульный офицер велел развязывать поклажу и всем, кто с обозом, представиться, тем самым давая понять, что откуп здесь будет поболее и что он имеет полномочия дознаться, чей это обоз, кто с ним идет и куда направляется.
Головин думал уж достать свою подорожную, но тут граф из санок вышел и подманил к себе караульного. Сказал ему всего-то несколько слов, а офицер руку к треуголке — прошу! — и самолично заставу поднял.
Ивашка потом нагнал, на ходу из седла перескочил в возок, однако же на Варвару даже не взглянул.
— Напрасно ты назвался, Яков Вилимович, — заметил он. — Пойдет слава гулять… Брюс был в ярости:
— На заставах взятки берут! За пять рублев не только разбойников — супостата пропустят, да еще и дорогу покажут! Не дело бы наше, в сей же час разжаловал в солдаты, а то и вовсе в кандалы и на каторгу!.. Эх, не быть более порядку, как при Петре Алексеевиче!
Капитан в сторону чужой невесты не смотрел, но почуял, как ей все в диковинку — далее Москвы не была и дома-то взаперти чаще сидела. К окошку слюдяному отвернулась и, наверное, глядит сквозь белое покрывало — ткань шелковая, индийская, так через нее изнутри все видно, а снаружи глядеть — все, что под нею сокрыто, лишь очертания едва просматриваются: Ивашка сам испытал и подивился столь редкому искусству.
Служанка же в первый день белугою поревела — слух был, от жениха оторвали и везут невесть куда, — однако же потом вытерла слезы, встряхнулась, словно курочка, прихорошилась, повеселела. И стала заводить своей госпоже долгие, старинные песни, коих знала в изрядном количестве, — граф тоже слушал и не препятствовал.
— Нам бы до Вологды добраться, — вдруг отчего-то затосковал он. — Атам Тренка все препоны обойдет, коли чинить станут. Только бы ко времени поспел…
На заставе в Вологде взяток не брали, возможно потому, что обоз встречал нарочный двора ее величества императрицы Екатерины — так и представился. И сразу же пакет генерал-фельдцейхмейстеру, и хоть стоит «смирно» перед ним, однако глаза надменно-шалые, дерзкие, как у всех офицеров его разряда, только что вкусивших счастье лицезреть царствующую особу.