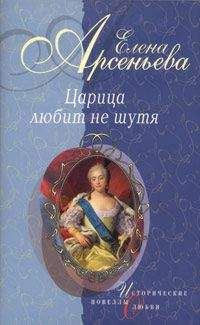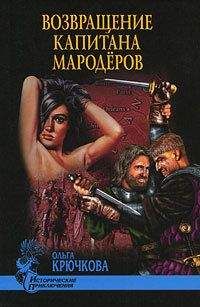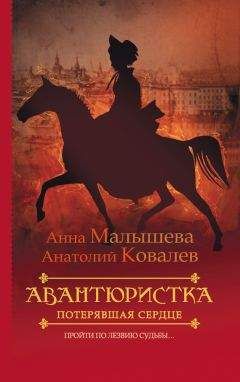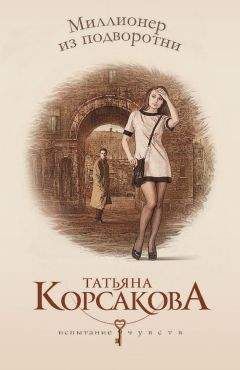Он вдруг резко отскочил назад, картинно выпрямился, молодцевато, словно показывая па мазурки, шаркнул слабыми ножками и лихо отрапортовал:
— Разрешите представиться, мещанин сего города Котошихин Степан Петрович.
В другое время и в другом месте Елена залилась бы звонким смехом, до того был забавен и смешон этот старикан. «Ему бы служить в дураках при каком-нибудь господине да веселить гостей», — подумала она. Однако сейчас было не до смеха. У нее едва хватило сил назвать в ответ свое имя и спросить, далеко ли до Москвы.
— Близехонько! — заверил Степан Петрович и вдруг с досадой хлопнул себя единственной рукой по боку. — Что же это я, старый дурень, лясы точу, дитятко голодом морю! Ну-ка, я тебя сейчас супцом мясным накормлю, — засуетился он, — а то, гляди, как исхудала, сердечная! Кожа да кости, и тех чуть-чуть…
Потешный старикан, приплясывая, поскакал на кухню, а Елена тем временем принялась с удивлением разглядывать незнакомую комнату. До этого она знала только усадьбы, свои и соседские, да крестьянские избы, куда захаживала по праздникам. Папенька с детства приучил ее дарить крестьянским детям игрушки и гостинцы.
Городской мещанский дом, в котором очутилась Елена, представлял для нее совершенно новое, диковинное зрелище. Большая комната в два окна показалась ей темной и неуютной, хотя в глазах отставного солдата являлась вполне удобным и комфортабельным помещением, достойным своей юной гостьи. Бревенчатые стены были оклеены дешевыми желтенькими обоями, больше похожими на оберточную бумагу, и украшены потемневшими гравюрами, изображавшими батальные картины, на которых, впрочем, ничего нельзя было разобрать, кроме клубов порохового дыма и взвившихся на дыбы бешеных лошадей. Из-за лакированных камышовых рамок то и дело высовывались и тут же прятались обратно рыжие тощие тараканы, словно обсуждавшие между собой удивительное появление Елены в доме их престарелого хозяина и прикидывавшие, что им с этого будет? На почетном месте, рядом с киотом, висел большой, напечатанный в красках портрет Екатерины II, между окон на скамеечке красовалось несколько горшков с пунцовой геранью, старый деревянный диван с решетчатой спинкой был покрыт лоскутной попонкой домашнего изготовления — вот почти и все, что стоило разглядывать в жилище доброго старичка. Мебель в комнате стояла самая простая, но содержалась опрятно, выкрашенный красною краской пол был недавно вымыт и блестел — все смотрело на Елену так же приветливо и бодро, как и сам хозяин этого небогатого дома.
Вскоре Степан Петрович вернулся и привел с собой молодую пышногрудую девку, которую звал Акулькой. Она бережно несла, прихватив передником, горячую миску с жидким супом. Елена так ослабла, что не сумела самостоятельно сесть, и Акулька, усадив ее удобно в подушках, принялась кормить с ложечки, как маленькую, да приговаривать: «Ешь, барынька, ешь голубушка, за папеньку, за маменьку…», отчего у девушки сразу выступили слезы на глазах, и больше одной ложки она проглотить не сумела. Попросив прощения и уткнувшись в подушку, Елена дала волю слезам.
— Это нервы у ней выкаблучивают, ай-ай-ай, — объяснил оторопевшей Акульке старик Котошихин и закачал головой. — Мне наш дохтур Занцельмахер об этом научно все растолковал. Особливо девицы подвержены!
Елена никак не могла остановиться и уже заходилась в рыданиях. Глядя на нее, за компанию ревела и Акулька, причем вывела басом такие рулады, что стекла в окнах задребезжали, будто мимо дома проехала подвода, груженная камнями. Степан Петрович, растерявшись и остолбенев от согласного девичьего воя, в конце концов ударил себя единственной рукой по лысому черепу и гневно сказал:
— С туркой воевал, на прусака ходил, а с девками не справлюсь? — И вдруг закричал не своим голосом: — Молча-а-ать, кликуши эдакие! Не на паперти, поди, а в приличном доме! Здесь орать не дозволяется!
Графиня с девкой разом умолкли и уставились на старика, который принял величественную позу. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги и подняв указательный палец, при этом страшно вращал глазами, которые почти выкатились из орбит, и уморительно дергал массивным носом, словно выхухоль. Елена невольно улыбнулась, а Акулька залилась истеричным смехом:
— Напугать хотел Степан Петрович, а вышла потеха! Да, прошли времена, когда унтер-офицер Котошихин сеял страх и ужас на поле брани! Много славных побед одержал он под командованием фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, пока не был изувечен турком в рукопашном бою. Домой вернулся одноруким, зато с женой, пленной турчанкой. Зульфия, в православии нареченная Софьей, родила ему сына и дочь, но от вторых родов занемогла и вскоре скончалась. Мальчика Степан Петрович назвал Аполлоном в честь греческого бога. Был сынок и в самом деле красив, как Аполлон, смуглолиц, черноволос и глазаст — в матушку. От отца он унаследовал страсть к военным баталиям и вот уже лет семь как не был дома, изредка посылая о себе весточки с полей сражений. Дочку Котошихин опять же назвал, как богиню, Афродитой, поскольку питал страсть ко всему возвышенному и помпезному. Афродита Степановна, однако, не оправдав своего имени, лицом вышла очень дурна, к тому же переболела в детстве оспой, что не добавило ей очарования. Девушке пророчили безмужнюю жизнь, но она, на удивление всему городу, ловко заарканила богатого старика-купчишку, который вскоре после свадьбы неожиданно преставился. Так Афродита в одночасье стала владелицей капитала, дома с садом и доходного дела. Котошихин хвастался перед соседями дочерью, гордясь ее умом и удачливостью, те же меж собой обсуждали ее скаредность, нелюдимость и яростную показную набожность. Афродита не скупилась жертвовать на церковь, но нищим не подавала и даже родного отца не баловала. На праздник преподнесет ему калач, и на том, как говорится, спасибо! Степана Петровича кормила его старая галантерейная лавка, заведенная им еще тридцать лет назад, когда он вернулся домой инвалидом. В общем, они с Акулькой, служившей у него в лавке и одновременно заменявшей кухарку, не бедствовали, но и не купались в роскоши, а главное, ели свой хлеб и ни от кого не зависели.
Елена поправлялась очень медленно, тоска по дому и родным осложняла течение болезни, и доктор Занцельмахер только разводил руками. «Ей бы отвлечься, развеяться, вот мой рецепт, — говорил он и тут же прибавлял: — Да только в нашем городишке скука смертная, по случаю войны отменены все развлечения».
В один из дней, проведенных графиней по обыкновению в слезах, она вдруг решилась поведать старику о своей трагедии. Ее рассказ прерывался рыданиями, а бывший екатерининский вояка только охал да крестился. В конце Елена вскрикнула: «Не хочу больше жить, не желаю!» — и вновь уткнулась в подушку. Пригладив ее волосы единственной рукой, Котошихин произнес с досадой: «Эх, была бы ты нашего сословия! Женил бы на тебе Аполлона! Он малый славный, с сердцем, бравый офицер и красавец, хоть бы и в гвардию!» Неожиданно Елена оторвалась от подушки, вытерла слезы и смущенно призналась: «Так ведь я уже невеста…»