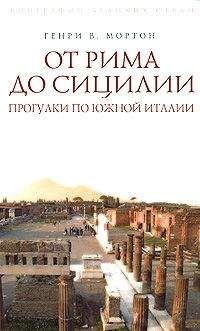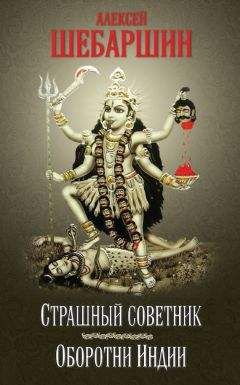— Как так?
— Я сдаюсь.
— Ты сдаешься, отец? — вскрикнул Али.
— Да… но я дал слово сдаться одному-единственному человеку и сдамся только ему. Пусть потушат пожар, как я говорил, и доставят сюда из Мессины этого человека.
— Но кто же он?
— Паоло Томмази, жандармский бригадир.
— У вас нет других пожеланий?
— Еще одно.
И он что-то тихо сказал мальтийцу.
— Надеюсь, ты не просишь сохранить мне жизнь? — спросил Али.
— Разве я не сказал, что после моей смерти мне потребуется от тебя еще одна услуга?
— Прости, отец, я позабыл.
— Ступайте, командор, и сделайте все, как я сказал. Если пожар будет потушен, я пойму, что мои условия приняты.
— Вы не сердитесь на меня за то, что я взялся за это поручение?
— Ведь я же говорил, что назначаю вас своим парламентером.
— Да, правда.
— Кстати, — молвил Паскаль, — сколько домов они успели поджечь?
— Горели два дома, когда я отправился к вам.
— Вот кошелек, в нем триста пятнадцать унций. Раздайте эти деньги погорельцам. До свидания.
— Прощайте.
Мальтиец вышел.
Бруно отбросил далеко от себя оба пистолета, вновь сел на пороховую бочку и погрузился в глубокую задумчивость. Юный араб вытянулся на шкуре пантеры, служившей ему постелью, и остался лежать в полной неподвижности с закрытыми глазами, можно было подумать, что он спит. Зарево от пожара побледнело: условия Бруно были приняты.
Прошло около часа, дверь комнаты отворилась, и на ее пороге остановился человек; видя, что ни Бруно, ни Али не обращают на него ни малейшего внимания, он несколько раз нарочито кашлянул: это был способ деликатно заявить о своем присутствии, который, как он видел, с успехом применялся на подмостках мессинского театра. Бруно поднял голову.
— А, это вы, бригадир? — проговорил он, улыбаясь. — Одно удовольствие посылать за вами: ждать вас не приходится.
— Да… они встретили меня в четверти мили отсюда на пути к вам. Мой отряд перебросили сюда… и мне передали вашу просьбу.
— Да, мне хотелось доказать вам, что я человек слова.
— Ей-богу, я и так это знал.
— Я обещал дать вам заработать те пресловутые три тысячи дукатов, и мне захотелось выполнить свое обещание.
— Черт!.. Черт! Черт возьми! — произнес бригадир с возрастающим чувством.
— Что вы хотите этим сказать, приятель?
— Хочу сказать… хочу сказать… что лучше бы я заработал эти деньги другим манером… получил бы их за что-нибудь другое… к примеру, выиграл бы в лотерею.
— А почему, спрашивается?
— Да потому, что вы храбрец, а храбрецов не так уж много на белом свете.
— Полно, не все ли равно? А для вас это повышение, бригадир.
— Знаю, знаю, — ответил Паоло в полном отчаянии. — Итак, вы сдаетесь.
— Сдаюсь.
— Сдаетесь именно мне?
— Именно вам.
— Честное слово?
— Честное слово. Можете отослать весь этот сброд; не желаю иметь с ними никакого дела.
Паоло подошел к окну.
— Разойдитесь! — крикнул он. — Я отвечаю за пленника. Сообщите в Мессину об его аресте.
Солдаты встретили это сообщение громкими криками радости.
— Теперь, — сказал Бруно, обращаясь к бригадиру, — садитесь за стол, и давайте закончим ужин, который был прерван этими болванами.
— Охотно, — ответил Паоло, ведь я только что проделал за три часа целых восемь миль. Умираю от голода и жажды.
— Ну что ж, — продолжал Бруно, — раз вы так хорошо настроены и нам остается провести вместе одну-единственную ночь, надо провести ее весело. Али, сбегай за нашими дамами. А пока что, — продолжал Бруно, наполняя два стакана, — выпьем-ка за ваше производство в унтер-офицеры.
Пять дней спустя после описанных нами событий князю де Карини сообщили в присутствии красавицы Джеммы, которая лишь неделю назад вернулась из монастыря, где она отбывала наложенную на нее епитимью, что его приказ наконец выполнен: Паскаль Бруно схвачен и заключен в мессинскую тюрьму.
— Превосходно, — сказал он, — пусть князь де Гото уплатит обещанные три тысячи дукатов, а затем велит судить и повесить бандита.
— О, мне было бы так интересно взглянуть на этого человека, — проговорила Джемма тем нежным, ласкающим голоском, которому князь ни в чем не мог отказать. — Я никогда не видела его, а ведь о нем рассказывают чудеса…
— Не беспокойся, мой ангел, — ответил князь. — Мы прикажем повесить его в Палермо!
Князь де Карини, верный обещанию, которое он дал своей любовнице, велел перевести заключенного из Мессины в Палермо, и Паскаль Бруно был доставлен под усиленной охраной в городскую тюрьму, расположенную на Палаццо-Реале, рядом с домом для умалишенных.
К вечеру второго дня в его камеру явился священник; при виде священнослужителя Паскаль Бруно встал; но сверх всякого ожидания отказался исповедаться; священник стал настаивать, однако ничего не могло побудить Паскаля выполнить этот христианский долг. Видя, что ему не побороть упорства заключенного, священник осведомился о причине такого умонастроения.
— Дело в том, — ответил Бруно, — что я боюсь совершить святотатство.
— Каким образом, сын мой?
— Скажите, ведь во время исповеди надо не только раскаяться в своих преступлениях, но и простить преступления других?
— Несомненно, без этого не может быть подлинной исповеди.
— Так вот, — продолжал Бруно, — я не простил, следовательно, исповедь моя будет не настоящей исповедью, а я этого не хочу…
— А быть может, под вашим упорством кроется другое? — продолжал священнослужитель, — вы страшитесь признаться в своих грехах, ибо они так велики, что отпустить их не может ни один священник? Успокойтесь, Господь Бог милостив, и надежда не потеряна, если раскаяние грешника искренне.
— И все же, отец мой, если после отпущения грехов, перед смертью, мне придет в голову грешная мысль и я не смогу отогнать ее?
— Плоды вашей исповеди будут потеряны, — ответил священник.
— Значит, мне нельзя исповедываться, — сказал Паскаль, — ибо грешная мысль все равно придет мне в голову.
— И вы не можете изгнать ее из своих помыслов?
Паскаль улыбнулся.
— Она-то и дает мне силу жить, отец мой. Неужто вы думаете, что без этой дьявольской мысли, без последней надежды на месть я позволил бы выставить себя на посмеяние перед собравшейся толпой? Ни за что на свете! Скорей бы задушил себя вот этой цепью. Я решился на это еще в Мессине, но тут был получен приказ о моем переводе в Палермо. Я понял, что она пожелала видеть, как я умру.
— Кто это?
— Она.
— Но если вы умрете нераскаянным грешником, Бог не простит вас.