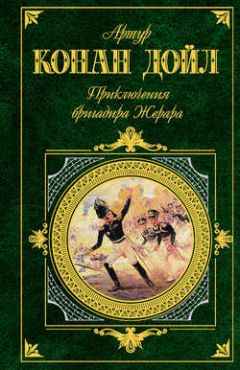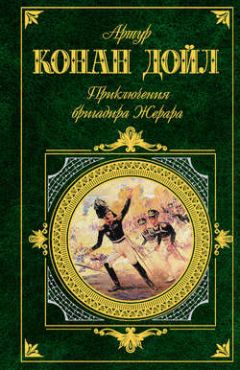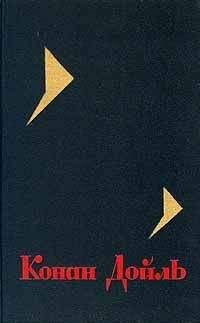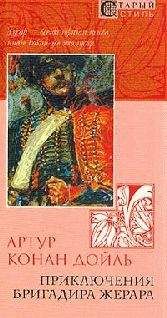В темноте я слышал, как у него стучат зубы, и подумал, что вряд ли можно найти более неподходящего партнера для такого рискованного дела. Тем не менее я схватил брус и, став на табуретку, просунул в окошко голову и плечи. Извиваясь, я постепенно высунулся наружу до пояса, как вдруг мой компаньон схватил меня за ноги и во весь голос закричал:
— На помощь! На помощь! Заключенный хочет бежать.
Ах, друзья мои, чего я только не перечувствовал в эту секунду! Разумеется, я сразу понял игру этого подлого существа. Зачем ему было карабкаться по стене и рисковать своей шкурой, когда он может не сомневаться, что англичане даруют ему свободу и прощение за то, что он помешал побегу человека гораздо более выдающегося, чем он сам? Я и раньше чувствовал, что он трус и подлец, но не понимал всей глубины подлости, на которую он способен. Тот, кто провел свою жизнь среди людей благородных и честных, не подозревает низости в другом, пока не столкнется с нею.
Этот болван, видимо, не понимал, что погубил не меня, а себя. Я быстро пролез обратно в темноте и, схватив его за горло, дважды стукнул его железным брусом. При первом ударе он взвизгнул, как дворняжка, которой наступили на лапу. При втором он со стоном рухнул на пол. Затем я присел на свою койку и стал покорно ждать кары, которую придумают для меня тюремщики.
Прошла минута, другая — ни звука, кроме тяжелого, хриплого дыхания лежащего на полу бесчувственного негодяя. Быть может, среди рева бури его криков никто не услышал? Крохотная надежда через минуту стала казаться вероятностью, а еще через минуту перешла в уверенность. Ни в коридорах, ни во дворе не слышалось ни звука. Я вытер со лба холодный пот и спросил себя, что же делать дальше.
В одном только я был совершенно уверен. Человек на полу должен умереть. Если я оставлю его в живых, то очень скоро он может опять поднять тревогу. Я не смел зажечь свет и ощупью шарил в темноте, пока не наткнулся на что-то мокрое — это была его голова. Я занес тяжелый железный брус, но было нечто такое, друзья мои, что помешало мне опустить его. В пылу боя я убивал много людей — людей честных, к тому же и не причинивших мне никакого зла. И вот передо мной лежал негодяй, мерзкое создание, недостойное жить на земле, пытавшееся сделать великую подлость по отношению ко мне, — и все же я не мог заставить себя размозжить ему череп. Так может поступить испанский разбойник или, какой-нибудь санкюлот из Фобур Сен-Антуан, но не солдат и благородный человек вроде меня.
Однако тяжелое дыхание Бомона внушило мне надежду, что он не так-то скоро придет в чувство. Поэтому я заткнул ему рот кляпом, разорвал одеяло на полосы и привязал его к койке — теперь вряд ли он сможет освободиться раньше следующего обхода тюремщика. Но передо мной возникла новая трудность: вы помните, что я рассчитывал на его рост, чтобы перебраться через стену. Я готов был сесть и заплакать от отчаяния, но меня поддержала мысль о моей матушке и об императоре. «Мужайся! — сказал я себе. — Для всякого другого это было бы катастрофой, но не так-то легко одолеть Этьена Жерара!»
Я принялся за работу. Взяв простыни, свою и Бомона, я разорвал их на полосы, сплел отличный канат и привязал его к середине железного бруса, который был больше фута длиной. Затем я спустился во двор; дождь лил, как из ведра, а ветер завывал еще громче прежнего. Я двигался вдоль тюремной стены, где тьма была чернее пикового туза, и не мог различить даже собственной руки. Я знал, что если не наткнусь на часового, то мне нечего его бояться. Дойдя до стены, огораживающей двор, я закинул вверх свой брус, и, к радости моей, он сразу же застрял между железными шипами. Я вскарабкался по канату, втащил его наверх и спрыгнул с другой стороны стены. Потом взобрался на вторую стену, но, сидя верхом на ней между двумя шипами, вдруг заметил, что в темноте внизу что-то блеснуло. Это был штык часового, блестевший так близко от меня (вторая стена была гораздо ниже первой), что, наклонясь, я мог бы отвинтить его от дула. Часовой, стараясь согреться, прижался спиной к стене и мурлыкал себе под нос песенку, не подозревая о том, что в нескольких футах от него отчаянный беглец готов поразить его в сердце его же собственным штыком. Я уже приготовился к прыжку, но тут часовой, ругнувшись, вскинул ружье на плечо, и я услышал, как зачавкала грязь у него под ногами: он пошел в обход. Я соскользнул с каната и, оставив его на стене, помчался что было духу по пустоши.
Боже, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и гудел в ноздрях. Дождь барабанил по моей спине и свистом отдавался в ушах. Я падал в колдобины. Я натыкался на кусты. Я продирался сквозь колючую ежевику. Я задыхался, я был исцарапан до крови. Язык мой пересох, ноги налились свинцом, сердце стучало, как барабан. Но я все бежал и бежал.
Однако я не терял головы, друзья. У меня была определенная цель. Наши беглецы всегда направлялись к побережью. Я же решил бежать в глубь страны, хотя говорил Бомону совсем иное. Я убегу на север, а они будут искать меня на юге. Вы, наверное, спросите, друзья мои, как я мог ориентироваться в такую темную ночь. Я отвечу: по ветру. Еще в тюрьме я заметил, что ветер дует с севера, и раз он бил мне в лицо, значит, я держался верного направления.
Так я бежал, пока впереди вдруг не показались два желтых огонька. Я на мгновение остановился, не зная, как быть дальше. На мне, как вы помните, был гусарский мундир, и в первую очередь мне представлялось необходимым раздобыть другую одежду, которая не выдавала бы меня с головой. Если это светились окна деревенского дома, то вполне вероятно, что там я могу найти то, что мне нужно. Я пошел прямо на огоньки, сокрушаясь, что оставил на стене свой железный брус, ибо решил драться насмерть, если меня схватят опять.
Но вскоре я обнаружил, что никакого дома там не было. Огоньки оказались двумя фонарями, висевшими по бокам кареты, и при свете их я увидел перед собой широкую дорогу. Притаившись в кустах, я разглядел, что карета запряжена двумя лошадьми, что возле них стоит маленький форейтор, а рядом на дороге валяется колесо. Все это, как живое, стоит у меня перед глазами, друзья: потные лошади, хилый юнец, держащий их за поводья, и большая, черная, блестящая под дождем карета на трех колесах. В окошке вдруг опустилось стекло и показалась шляпка, а под ней хорошенькое личико.
— Что же делать? — с отчаянием в голосе сказала дама форейтору. — Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется всю ночь сидеть в этой пустыне!
— Быть может, я смогу помочь вам, сударыня, — сказал я, выбираясь из кустов и выходя под свет фонарей. Женщина в беде — для меня дело святое, а эта к тому же была красива. Не забывайте, что, несмотря на чин полковника, мне было всего двадцать восемь лет от роду.