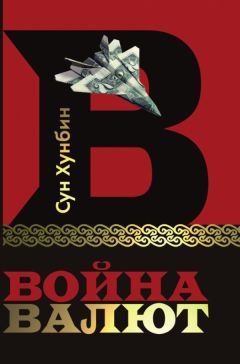Ознакомительная версия.
Ростислав не стал спорить, но теперь его взгляд то и дело устремлялся вверх, точно пытаясь сквозь потолок проникнуть в горницу. Он вспомнил женское лицо, мелькнувшее в окне, и выразительное лицедейство Тешила. Оглядевшись, Ростислав кивком подозвал отрока, который сидел на полу с бычьей костью и горбушкой хлеба, дожидаясь, когда княжичу понадобятся его услуги. Перехватив взгляд Ростислава, Тешило тут же сунул остатки добычи в сапог, размашисто вытер ладони о подол и подскочил к княжичу, всем видом выражая готовность кинуться хоть в огонь.
– Что ты мне во дворе рожи корчил и на окно указывал? – тихонько спросил Ростислав. – Был там кто? Женщина?
– Ага! – охотно подтвердил Тешило. – Девица. Все на тебя смотрела.
– Красивая?
– А то как же! Чисто царевна! – Едва ли отрок сквозь слюду хорошо разглядел девушку, но любое женское лицо в окне высокого терема кажется красивым.
Ростислав кивнул и отпустил его. Он еще не был уверен, что отец прав в своем намерении подружиться с Мономашичами, но расстроить союз последних с Изяславичами считал делом правильным. Тем более когда того же хотел сам Вячеслав туровский. Значит, его дочь следует отвезти к отцу и не допустить, чтобы она опять попала в руки мужа.
Да и любопытство разбирало: поглядеть бы на нее. Может, она и не так красива, как царевна греческая, но все-таки…
* * *
Почти весь день три пленницы просидели взаперти, прислушиваясь к шуму и голосам во дворе и внизу, в гриднице. Незадолго до сумерек, когда всем трем уже настоятельно требовалось выйти, замок опять загремел и к ним почти ворвался Мирон. Прямислава готова была напуститься на него: как он смел запереть княгиню! – но сотник, не давая ей слова сказать, метнул на ближайшую лавку ворох каких-то тряпок.
– Вот! – выдохнул он.
– Это еще что? – возмутилась Прямислава. – Что ты притащил?
– Одевайся, княгиня! – Мирон нашел взглядом Крестю. – Одевайся, а то дойдет до греха!
– До какого еще греха? Ты в уме ли! – Зорчиха приподняла за рукав серую рубаху из простого небеленого холста. Рубаха была вся в пятнах, вышивка на вороте и на плечах выцвела и излохматилась. – Что ты за дрянь приволок? Зачем такое княгине? Полы, что ли, подтирать? Дай хоть в нужник сходить, ирод!
– Да этот… – Мирон беспокойно оглянулся назад, на дверь в верхние сени. – Выйдете сейчас, мать, не волнуйся. Сухман Одихмантьевич этот… Ночевать здесь хочет, проклятый, да требует, чтобы ему горницы открыли. Я, говорит, не такого рода, чтобы где-то в черной клети ютиться… В болото бы ему, к лешему! Ну что ты с ним поделаешь, чтоб его черти взяли, у него же такая силища! Не драться же мне с ним! – Мирон в отчаянии хлопнул себя по бедрам, всем видом взывая к сочувствию. – Вот, за грехи мои, навязалось на голову беспокойство! Помилуй, Пресвятая Богородица! Надо тебе, княгиня, где-то пересидеть это время, пока не уберется. Я думал, здесь тебя не тронут, так ведь лезет, бес проклятый, в горницы! Я обещал, что сейчас приготовим ему лежанку, Прибавка за периной побежала.
– Где же я пересижу? – подала голос Крестя, вспомнив, что княгиня сейчас она.
– Надевай вот это и побудь пока в клети. А там Бог даст, я тебя со двора выведу, переждешь у смерда какого-нибудь.
– Ты сдурел совсем! – воскликнула Прямислава. – Чтобы княгиня да в простой избе сидела, в вонище, со свиньями вместе, дым глотала!
– Дымной горести не терпеть – тепла не видать! – пословицей ответил Мирон. – Не гневайся, княгиня, что же делать! Лучше в дыму чуть-чуть посидеть, чем этому бесу лешему в руки попасть!
– Да кто же он такой?
– И ты одевайся, красавица! – вместо ответа сказал ей Мирон. – Увидят твой подрясник, догадаются, что ты из монастыря, а там и до прочего дойдут. Не надо гусей дразнить, побудете обе как бы холопками…
– Я? – Прямислава пришла в негодование. – Чтобы дочь Вячеслава туровского, внучка Владимира киевского, холопкой прикидывалась! Окстись, сдурел совсем, ей-богу!
К счастью, Мирон понял ее так, что послушница возмущена неудобствами, какие приходится терпеть княгине.
– Лучше прикинуться, чем на самом деле холопкой стать! Княгиня – красавица, да и ты, душа моя, тоже хороша. – Он изо всех сил старался задобрить их обеих, только бы добиться своего, не поднимая шума и не привлекая внимания. – Лучше немного в холопском платье побыть, чем навек в чужие руки попасть. Бог видит, никакого ущерба твоей чести, княгиня, не будет! Послушай меня, Христом-Богом молю, ведь добра я тебе желаю! Иначе увезет вас этот Сухман, куда и Змей Горыныч Забаву Путятичну не заносил, и никакой Туров вас тогда не вызволит! Батюшку-то и мужа, Юрия Ярославича, пожалей, княгиня!
Упоминание об отце подействовало на Прямиславу, и она больше не стала спорить.
– Выйди, не будет же княгиня при тебе одеваться! – сурово велела она Мирону, и он, обрадовавшись, заторопился:
– Я тут, тут, княгиня, в верхних сенях буду! Выходите скорее, я вас вниз сведу, в клети спрячу, а если во дворе никого не будет, то и со двора выведу! Поскорее только!
– Сам давай поскорее!
Закрыв за ним дверь, Зорчиха стала разбирать одежду. Мирон притащил девушкам сорочки из простого грубого холста, явно поношенные и не слишком подходящие по меркам, но у него, как видно, не нашлось времени выбирать и примерять. Из двух плахт одна досталась от молодухи, а другая – синяя, от вдовы. Обуться им предлагалось в дырявые, разношенные поршни со стоптанными пятками, огромные, как утиные лапы. На простую тесемку очелья были нанизаны заушницы из потемневшей меди, которые у Прямиславы вызвали особенное отвращение: почему-то ей подумалось, что эти «сокровища» тиун Ивлянки собрал с каких-то семей за долги. А ей предложено их надеть! Она вспомнила украшения из своего приданого, подарки на свадьбу от отца и жениха: ожерелья из золотых узорных бусин, колты с разноцветной эмалью, ликами святых и райскими птицами, серебряные подвески и золотые перстни, жемчуга и самоцветные камни – все это теперь хранилось где-то в сундуках Апраксина монастыря, под надежным присмотром ключницы, матери Митродоры. А она, княгиня Прямислава Вячеславна, должна цеплять к своим волосам какие-то медные холопские побрякушки!
– И с каких только девок снял! – бормотала Прямислава, глядя, как Зорчиха раскладывает их «обновки». Никогда в жизни она не носила чужой одежды, да еще такой убогой, и весь этот замысел с переодеванием казался ей глупым и постыдным. – Ну, мы и так не царицы цареградские! – Она посмотрела на свой подрясник, потом на собственное платье, надетое на Крестю – мирское, из хорошей тонкой шерсти, но скромное, некрашеное, приличное для монастыря. – Зачем же еще холопками рядиться!
Ознакомительная версия.