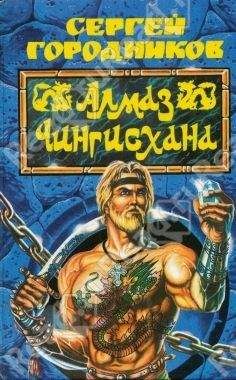Кривой Нос лишь отвернулся к речушке и тихо взвыл. Будто сквозь вату в ушах до его сознания докатился дальний хлопок еще одного карабина...
... Пуля опять ударила по камню, за которым укрывался Шава, со звоном лопнувшей струны рикошетом отлетела вверх.
– Шава не будет отвечать, глупая куропатка, – довольный собой тихо проговорил разбойник. – Шава умеет ждать.
И он ждал, когда унтер-офицер решит, что он мертв. Ждал, не обращал внимания на ход времени...
Кривому Носу невыносимо страшно было дольше оставаться одному; ему неосознанно хотелось переложить на Шаву заботу о себе, и он прихрамывал, но брел возле речушки туда, где должен был находиться главарь их шайки. За ремень он тащил карабин японского солдата, который постукивал деревянным прикладом по гальке. Шаркающий стук дерева о камни прекратился, когда Кривой Нос заметил лаз в пещеру поверх наваленных камней и булыжников и приостановился. Он отпустил ремень карабина и увлекаемый неодолимой потребностью спрятаться куда-нибудь от угрожающей смертью действительности, на четвереньках пробрался к лазу, протиснулся в него и пролез внутрь пещеры. Едва он освободил лаз, сзади в пещеру заструился слабый дневной свет, и Кривой Нос вскрикнул, в полумраке испугался очертаний вещей, оставленных золотоискателями. Испуг отнял последние силы; он опустился к земле, привалился к какому-то ящику. Только когда немного успокоился, по воровской привычке осторожно полез на четвереньках к вещам, стал разбирать их. Среди прочего обнаружил драги для промывки речного песка.
– Золото, – пробормотал он. – Здесь должно быть золото.
Подстёгнутый лихорадочным волнением он принялся жадно рыться в вещах, ящиках, перетряхивал и разбрасывал всё, что попадалось под руки. Он напрочь позабыл о желании очутиться ближе к Шаве...
Унтер-офицер вдруг выскочил из-за обвала, подбежал ближе и прыгнул на землю, готовый тут же пальнуть в Шаву, если тот хоть на миг выглянет из укрытия. Но из укрытия в больших камнях не доносилось ни звука. Наконец японец поднялся на колени, затем встал и выпрямился, осторожно подступил к речушке. Он всё время держал под прицелом укрытие не подающего признаков жизни противника. И всё же опоздал. Оружие в руках рывком поднявшегося за речушкой Шавы изрыгнуло пламя на мгновение прежде его карабина, пуля ужалила его в живот, как будто разорвала внутренности. Унтер-офицер попытался удержать карабин, но ствол неумолимо клонило к воде. Он терял силы, со стоном медленно завалился на бок.
Шава прыжками, по камням перебрался через речушку, остановился над еще живым японцем.
– Глупая куропатка, – подытожил он и выстрелил унтер-офицеру в голову.
Расправившись с обоими японцами, он сразу подумал о неприятеле, за сердцем которого и прибыл в эти опасные и гиблые места. А вдруг тот воспользовался обстоятельствами, чтобы оставить зимовье, забрать самое необходимое и скрыться?
– Гдэ же тэперь его искать? – пробормотал он, озабоченно глядя вниз, на берега речки.
– Я здесь, – неожиданно услышал он шагах в десяти за спиной болезненно глухой, но негромкий и спокойный голос Шуйцева.
Шава замер. Тихо передернул затвор карабина. Ему вдруг вспомнилось, как он в детстве издевался над сверстниками-преследователями, убегал от них почти через такую же мелкую речку, с почти такими же берегами и взбивал вокруг себя в огромные лепестки текущую от гор прозрачную и холодную воду...
И он прыгнул к воде, разбрызгал ее ногами. На бегу стал разворачиваться, пальнул из-под руки в уверенно стоящего на берегу Шуйцева, передернул затвор и выстрелил еще раз... Он видел: двуствольное ружье Шуйцева неумолимо поднимается, черными глазницами дул отыскивает и ... находит его.
Сначала первая, рассчитанная на медведя, пуля страшно ударила его под правый сосок, но он нелепо взмахнул руками, карабином, смог удержаться на ногах. Затем в его груди разворотила дыру вторая пуля, разбрызгала кровь, подбросила его самого, и он опрокинулся на плечо, ушел под воду, где хищные душу и разум поглощала мгла.
Шуйцева знобило, тяжёлым грузом наваливались усталость и слабость. Он отвернулся и направился к зимовью. Он брел вдоль речушки, и его беспокоило, что подхватил не обычную простуду, – болезнь проникала в лёгкие, бралась за него всерьёз. Хорошо, успел расставить точки над i. Он раскрыл ружье, вынул одну за другой обе гильзы, отбросил их в сторону – они пролетели, хлюпнули, захлебнулись в воде: он не желал оставлять их, хотел поскорее забыть о Шаве и каторге. Патронов у него больше не было, и он перекинул ружьё за спину.
Добрался он до хижины уже весь в поту. С туманом перед глазами распахнул дверь, ввалился внутрь.
– Брось ружье! – остановил его быстро проговорённый приказ.
Кривой Нос расставил ноги у печки, держал его голову под прицелом карабина. Шуйцев вяло снял ружье с плеча, приставил к стене. Оно не удержалось на прикладе: соскользнуло, в падении стукнулось об пол. Кривой Нос вздохнул с облегчением и опустил карабин.
– Где золото? – наглее потребовал он ответа.
Шуйцев развернулся, пальцами сделал знак идти за собой. Уголовник не ожидал, что все получится так просто, облизнул губы, вытер их ладонью и вышел за дверной проем следом за Шуйцевым. Тот остановился близь угла хижины, внимательно к чему-то прислушался. Глаза его блестели нездоровым весельем.
– Слышишь? – спросил Шуйцев, приподнимая указательный палец.
Даль растревожил лай своры собак. Лай приближался. Донесся отзвук предупредительного выстрела холостым патроном.
– Кто это там?! – взвизгнул Кривой Нос. Карабином показал Шуйцеву на дверь хижины. – А ну, давай обратно!
Тот не двинулся с места, стал вынимать из ножен на поясе клинок самурая.
– Брось! – опять взвизгнул Кривой Кос, испуганно отскочил и дернул курок, предупредительно целя Шуйцеву под ноги.
Выстрела не последовало. Кривой Нос нервно передернул затвор. И карабин вновь только сухо щелкнул. Лай собак был уже отчетливым; вырвался из расщелины, стал громче и как будто разом много ближе. Кривой Нос не выдержал. Он попятился и, как загоняемый собаками зверь, припустил к лесным зарослям. Шуйцев не видел этого, он привалился к стене хижины, по бревнам сполз к земле, оперся об нее клинком. В глазах у него все кружилось, и невыносимо тошнило, будто чем-то отравился, и он потерял сознание.
С ощущением, что наконец-то выздоравливает, очнулся он от собственного кашля. Мордой на его груди рядом лежала лайка Степаныча. Она поверх медвежьей шкуры глянула ему в глаза, поднялась, соскочила с лежанки на пол и, зевая во всю зубастую пасть, сладко потянулась. Он дотронулся пальцем до недельной щетины на подбородке, сообразил, что пролежал в горячке и забытьи несколько суток. На столе были разложены пучки сухих трав. В печи потрескивали дрова. Степаныч в котелке на печи куском ветки размешивал варево, от которого поднимался густой пар. Варево опять предназначалось ему. Всю прошедшую неделю он каждый день пил из рук Степаныча какое-то отвратительное своей горечью пойло и, пожевав кусок вяленой красной рыбы, возвращался в сон и бред вперемешку. На этот раз он проснулся окончательно. Было странно, что не чувствовал ни голода, ни признаков болезни. Только истому в теле от продолжительного лежания. С ног его соскочила на пол другая собака и, тоже распахнула пасть, высунула язык и, подвывая, потянулась.