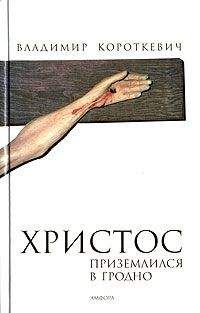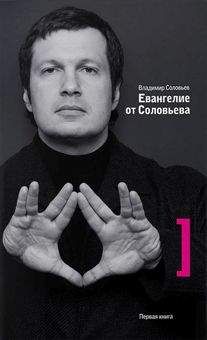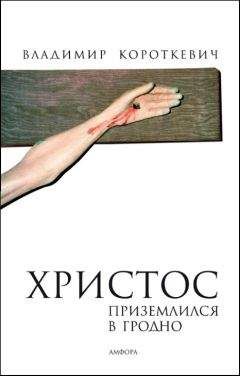Раввуни прикрыл глаза рукой. Стоял, как живое изваяние отчаяния и ярости. И даже тем, кто никогда и не были людьми, стало неловко.
— Расскажи подробнее про свою жизнь от изгнания и до этого дня, — велел Комар. — Они правильно сделали, что изгнали тебя. Мы бы сделали то же самое... Расскажи, какими новыми злодеяниями ты подтвердил справедливость приговора.
Но иудей не издал ни звука и только жалобно оглянулся. Шальной порыв пророчества прошёл, и он теперь не знал, что и как ему сказать. Только что его речь лилась водопадом, иногда запинаясь на отдельных словах, как течение на отдельных камнях. А теперь он с трудом подыскивал эти слова, разговаривая больше руками, чем устами. Так бывает, когда у поэта кончается вдохновение. Только что это был титан, и вот уже маленький, почти что достойный жалости человечек.
— Я... гм... Ну, они таки схватили меня... я... дотащили до... Я хочу, простите, чтобы вы поняли меня... Я очень плохо... знаю... белорусский язык.
— Может, ты будешь говорить на каком-нибудь другом? — важно спросил Лотр.
— Я знаю свой... Знаю древний... Знаю испанский... Простите... Из этих — лучше всего древний.
Судьи переглянулись.
— Это зачем? — спросил Босяцкий.
— А зачем вам латынь? — внезапно вмешался Братчик. — И вам не повредило бы знать древний язык, раз на нём написана Библия. Я вот не знаю и жалею. Нужно знать всё, раз мы люди... Никак это у нас не продумали...
— Плевал я на всё это, — нахмурил грозные брови Комар. — Я знаю идентичную Библию, и греческую, и Библию на вульгар...
— И потом, — перебил его капеллан, — человеку неподготовленному, человеку, не прошедшему всех ступеней познания, не надлежит самому, без руки указующей, читать Библию, ниже Евангелие, чтобы не лишиться ума... Ты будешь ещё говорить, иудей?
Братчик вздохнул:
— Вы видите, он сбивается. Он растерялся. Он не может. Остальное я знаю, как и он... Возможно, я мог бы рассказать?
— Говори, — сказал Болванович.
Юрась потёр лоб.
Рассказ Юрася Братчика.
— Из Мира я пришёл в Слоним. Мне выпало на долю много скитаться, и голодать, и ночевать Бог знает где. Я никогда не думал, что будет так тяжело. Лет за двести... видать... было легче. В Слоним я пришёл под вечер. Там вокруг густые и очень красивые леса, а между ними, на взгорках, на диво уютный городок. Я шёл и думал, где мне переночевать и сколько ещё бесприютных ночей меня ожидает.
Дорога моя проходила через подворье старой Слонимской синагоги. Вы знаете, где это. Высокая каменная стена, а за ней куб из дикого камня под острой крышей... Сам не знаю почему, но я остановился у входа на подворье синагоги, где стоят две каменные женщины.
— Какие женщины? — спросил Жаба.
— Каменные. Если пан магнат не был там, то могу объяснить. Король Жигмонт вывез их из Германии и, не знаю, во время какого путешествия, повелел поставить их в Слониме в знак того, что хоть Слонимская община и очень стара, но в вере она слепа. Одна женщина, со светильником в руке, — Костёл. Другая, с повязкой на глазах, — Синагога, ибо лишена она света и блуждает во тьме.
— Чему ты улыбаешься? — насторожился Жаба.
— Да так, я подумал, что в самых тёмных душах незаметная для разума живёт справедливость... Так вот, все эти очень высокие мысли были непонятны людям. Никто не мог догадаться, почему поставили на скрещении улицы двух девок и почему одна светит другой, когда та играет в жмурки. Одни люди, видимо блюстители чистоты нравов, поотбивали им носы, так как женщины были почти голые... Другие, видимо рыцари плоти, хотели, очевидно, убедиться, что женщины каменные, и оставили там и сям следы своих лап... А остальные натащили под камни, на которых стояли женщины, кучу мусора.
Я стоял и думал, куда мне пойти, когда увидел, что в воротах подворья синагоги что-то кишит. Потом оттуда вывалилось человек пятнадцать его соплеменников. Они были очень богато одеты. Лисьи плащи, длинные, из дорогого сукна... халаты, или как их там?.. На головах — жёлтые с золотом повязки. На руках — бранзалеты из витого серебра и золота. Остальные — их было много и большинство в тёмных одеждах — стояли на улице и подворье и молчали. А эти тащили вот его... Но Боже ты мой, что это были за морды! Ноздри наружу и трепещут, руки жирные, глаза и веки красные от гнева. А один, самый здоровенный, а по виду не иудей, а кузнец и бандюга с большой дороги, кричал: «Начальника в народе твоём злословил! Бейте его камнями!». Но люди только поднимали руки вверх.
— Шамоэл ослоподобный, — сказал Раввуни.
— Никто его, Раввуни, не бил. Но никто и не заступался. Ни единая душа.
— Что делать без общины? — бормотал иудей. — Умирать? Они боялись. И всё же они свиньи. Они же тоже община.
— Они подтащили его к воротам, но тут он вцепился в верею, как дед[66] за волосы, и хоть эти морды были страшно жирные и здоровые, они ничего не могли сделать с ним одним. Ведь они мешали друг другу, а он, такой неотвязный, вцепился в верею, как самшит в расщелину скалы. Признаться, я сразу одобрил его, и он мне понравился. Всегда приятно, когда один мужественно держится против многих... Я немного понимаю местечковый диалект и услышал: «Злодеи вы! — кричал он. — Чтоб вы редькой росли, и чтоб эта бедная ваша задница трепетала на ветру».
Они пыхтели, и сопели, и возились, как ёжики, а я наблюдал за ними. Мне некуда было спешить и некуда было идти. В этом уютном местечке для меня не было места.
Они толкались и ничего не могли сделать с ним. Он же держался и кричал: «У всех разбойников на земле один язык! Его только вы... да, его только вы знаете! Что бы сказали ваши покойники, ваши богобоязненные бабули, ваши набожные предки?! Они перевернулись бы в могилах... задом к проданному вами Иерусалиму! Зачем вам списки Пана Бога — у вас списки награбленного».
И тут чей-то пинок вытолкнул, наконец, его из ворот. Он полетел и грохнулся в пыль. А потом вскочил и начал такую яростную иеремиаду, какой мне никогда не доводилось слышать: «Гогочете вы над падением народа своего, как жеребцы! Шакалы вы! Чтоб вам прижиматься к навозу, чтоб ваша кожа стала сухой, как дерево! Уши у вас необрезанные, в гробах вы ночуете, сами свиньи и свиней жрёте, и мерзостное варево в горшках ваших!».
И вдруг так закричал, что меня разобрал смех: «Босяки-и! Тьфу на вас! Тьфу!».
Он швырял в них пригоршни пыли и плакал от бессилия, ибо им это было, как и слова, — об стенку горох. Тогда я подумал, что и взаправду его могут побить камнями и это будет плохо. Я подошёл и сказал ему: «Пойдём, браток».
— Он сказал мне: «Пойдём, браток», — пробормотал Иосия. — И я пошёл. А что мне ещё оставалось делать?
— Мы пошли уже вдвоём. В Слониме нам нельзя было оставаться. Раввуни был прав: Бог словно отнял у этого Шамоэла разум. Он хватал, как волк, за живое. Потом мы узнали, что мужики убили его, и двоих его сообщников, и ещё двоих невиновных.