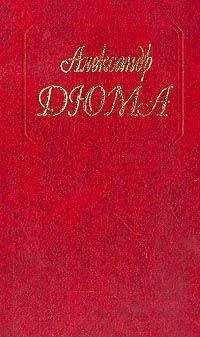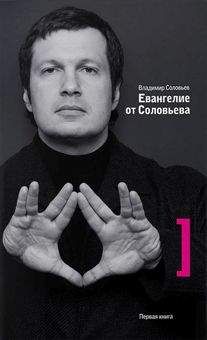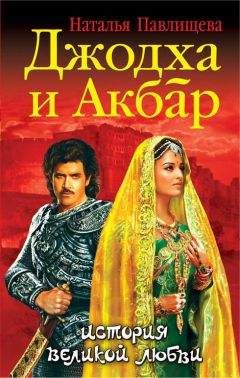Богу известно, если бы я увидел ее сидящей в лохмотьях у гроба бедного пастора, моего предшественника, я бы любил ее и почитал точно так же, как теперь любил и почитал; но, однако, должен признаться и в том, что во время этого осмотра моего будущего богатства я все же испытал некоторое удовлетворение, вовсе не связанное с любвью к собственности.
Тут мне вспомнились слова моей приемной матери о том, что, вероятно, вскоре вместе со мной в доме будет жить молодая хозяйка, и я с гордостью думал: если предсказание сбудется, мы сразу же, вступая в супружество, будем богаты так, как другие бывают богаты только через десять, двадцать, тридцать лет.
Моя нежность к дорогой дарительнице ничуть не возросла, но к ней присоединилась признательность, и это вылилось в чувство более глубокое, более горячее, и я бы даже сказал — какая же страсть к собственности таится в глубинах человеческого сердца! — исполненное большей преданности.
Мы сели за стол.
Вы уже знаете, дорогой мой Петрус, что природа одарила меня отменным аппетитом; но на этот раз мысль о том, что я ел, пользуясь фаянсовой посудой и столовым серебром, которые в один прекрасный день будут принадлежать мне, только усилила удовольствие от еды, и, хотя она была просто вкусной, я нашел ее превосходной; затем, после обеда, во время которого г-жа Снарт, как добрая мать, и я, как добрый сын, договорились о наших будущих делах, я обнял ее и, несмотря на ее настойчивые просьбы остаться еще на денек, сел в одноколку и отправился в Ноттингем.
Подлинной причиной этого отъезда было мое желание как можно скорее сообщить меднику о моем триумфе.
Увидев перед домом священника одноколку, около дюжины крестьян собрались с намерением попрощаться со мной.
Я простился с ними и попросил их пожелать мне скорого возвращения.
Стоя с непокрытыми головами и несмело протягивая мне руки, они сделали это.
Я пожал руку каждому, затем обнял самого старого из них, попросил его благословить меня и, как уже было сказано, сел в одноколку и отправился в Ноттингем.
Вдоль всей улицы я видел группки из трех-четырех крестьян, о чем-то беседующих между собою.
Заслышав грохот одноколки, они оборачивались и при виде меня улыбались. А я говорил себе гордо — ведь, увы, дорогой мой Петрус, Вы не ведаете, какой сорной травой, каким живучим растением является гордыня! — так вот, я говорил себе:
«Они обсуждают мою проповедь и радуются тому, что их пастор красноречивее всех других пасторов в округе!»
В глубине же души я таил и другую мысль:
«А что же будет, когда я создам свое великое произведение?!»
Ведь к этому великому творению, которое я считал бесповоротно приговоренным к небытию, мысль моя время от времени возвращалась.
Правда, вскоре меня отвлек вид равнины и встречающиеся по пути те дома, те дети, те животные, которые со времени моего приезда внушали мне столь благотворные мысли.
Я улыбался всему этому и благословлял все по пути тем более радостно, что не сделал этого раньше: теперь у меня имелись основания считать достоверностью то, что еще недавно было всего лишь зыбкой надеждой.
К двум часам пополудни я уже возвратился в Ноттингем.
Мой хозяин-медник ушел из дому, чтобы отнести свои изделия заказчикам; однако мне сказали, что ушел он ненадолго, и я решил дождаться его в лавке.
И правда, он возник на пороге буквально через несколько минут.
— А! — произнес он, читая на моем лице радость, слившуюся с гордостью. — Нет нужды спрашивать, довольны ли вы вашим путешествием… Похоже, дела пошли на лад?
— Просто превосходно, дорогой мой хозяин! — ответил я. — Успех превзошел все мои ожидания.
— Тем лучше, — промолвил он, — тем лучше! И я рад, что меня обманули мои предчувствия… Признаюсь, я ждал вас с некоторым беспокойством и не очень-то надеялся на вашу проповедь… Ну, да что же вы хотите, я маленький человек, ничего не смыслящий ни в литературе, ни в богословии, ни в науке. Я оказался не прав, а вы правы.
Признаюсь Вам, дорогой мой Петрус, остаток былой гордыни, еще не изжитой во мне, склонял меня поверить милому человеку, что это он ошибся, а я был непогрешим; но я устыдился этого голоса гордыни и тут же преодолел ее.
— Нет, дорогой мой хозяин, нет, — ответил я ему, — напротив, вот вы-то правы, а я не прав. От прежней проповеди, которую я вам читал и которую вы с полным основанием нашли отвратительной, остался только стыд за то, что я ее написал.
И тут я рассказал ему обо всем, что произошло со мной: как вид всех естественных и восхитительных предметов, встретившихся мне на пути, изменил течение моих мыслей, как я мужественно разорвал мою проповедь и как с Божьей помощью без всякой подготовки прочел другую.
— Слава Богу! — откликнулся он, подойдя ко мне, и протянул руку. — Я об этом много думал: у вас золотое сердце, только разум ваш порою бывает неверно направлен, но это происходит по той причине, господин Бемрод, что вы человек слишком уж ученый. Существует множество людей, и я в их числе, которым следовало бы больше знать, вам же, сударь, напротив, следовало бы о многом забыть.
Я гордо усмехнулся.
У меня было довольно здравое понимание меры моих познаний, чтобы почти целиком разделить мнение моего хозяина-медника и признать, что я действительно мог бы многое забыть и при этом прекрасно все понимать.
Я вернулся в мою комнатку и стал терпеливо ждать решения господина ректора, к которому я приходил дважды, но не имел чести быть им принят.
Стало ясно, что достойная г-жа Снарт не ошиблась.
Ректор надеялся, что вторая моя проповедь провалится так же, как провалилась первая; затем придет очередь проповедовать его племяннику и он добьется успеха там, где я потерпел поражение; сами прихожане пригласят на вакантное место пастора молодого человека, рекомендованного ректором, и при этом будет соблюдена видимость самой строгой беспристрастности, поскольку это он устроил состязание между нами и вовсе не он, а победа его племянника решила дело в пользу более достойного.
Вопреки этому хитрому плану, вопреки всем чаяниям, вместо ожидаемого провала я добился неожиданного успеха; крестьяне, вместо того чтобы просить племянника ректора стать их пастором, написали, что именно меня они желают видеть своим пастором, добавив, что выбор их настолько бесповоротен, что было бы просто бесполезно представлять им другого соискателя.
Не осмеливаясь что-либо предпринимать против подобного единодушия, племянник ректора держался в тени, а сам ректор, поддавшись приступу дурного настроения, закрыл передо мной свою дверь.
Но это был человек слишком искушенный, чтобы на глазах у людей обращаться со мной так несправедливо; и вот через три недели после того дня, когда я столь успешно проповедовал в приходе Ашборна, меня назначили туда пастором.