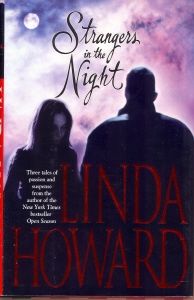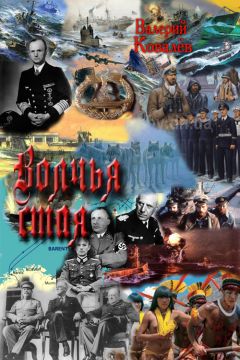гостинице, чтобы дать отдых ногам, помечтать об Антонии, о Захарии и выкурить в одиночестве добрую трубку, которой хватит на два часа.
Но — о чудо! — эта самая Цветочная набережная, такая тихая, такая пустынная, сейчас была черна от множества сбежавшихся сюда людей: они бесновались и вопили истошными голосами.
Невысокий ростом, Гофман ничего не видел за спинами этих людей; работая локтями, он быстро пробился сквозь толпу и вернулся к себе в комнату.
Он подошел к окну.
Все взгляды тотчас же обратились к нему, и на мгновение он смутился, когда заметил, как мало окон было открыто. Однако окно Гофмана скоро перестало вызывать любопытство собравшихся — их привлекло нечто другое, и молодой человек поступил так же, как и другие: он устремил взор на вход в большое черное здание с остроконечной крышей; над крышей возвышалась квадратная тяжеловесная масса приземистой колоколенки.
Гофман позвал хозяйку.
— Гражданка, — обратился он к ней, — скажите, пожалуйста, что это за здание?
— Это Дворец, гражданин.
— А что делают в этом Дворце?
— Во Дворце правосудия судят, гражданин.
— Я думал, что у вас больше нет судов.
— Конечно, нет! У нас теперь только Революционный трибунал.
— Ах да, верно! А почему тут такая толпа?
— Люди ждут, когда приедут повозки.
— Какие повозки? Ничего не понимаю; вы уж простите меня: я ведь иностранец.
— Гражданин! Повозки — это все равно что похоронные дроги для тех людей, кого везут на смерть.
— Ах, Боже мой!
— Ну да, утром туда приводят заключенных, которых будет судить Революционный трибунал.
— Так.
— К четырем часам всех заключенных осуждают и размещают на повозках, которые гражданин Фукье реквизировал для этой цели.
— Кто этот гражданин Фукье?
— Общественный обвинитель.
— Так-так; ну, а дальше?
— Дальше повозки не спеша отправляются на площадь Революции, а там гильотина работает без передышки.
— Да что вы?
— Как! Вы выходили из дому и не взглянули на гильотину?! Да это первое, что идут смотреть иностранцы! Похоже, только у нас, у французов, и есть эти самые, гильотины.
— Примите мои поздравления, сударыня.
— Называйте меня «гражданка».
— Прошу прощения.
— Смотрите, вот они, повозки-то, — подъезжают.
— Вы уходите, гражданка?
— Да, не хочется мне больше смотреть на это. И хозяйка направилась к двери.
Гофман мягким движением взял ее за руку.
— Извините, я хочу задать вам один вопрос.
— Задайте.
— Почему вы сказали, что вам больше не хочется смотреть на это? Я бы на вашем месте сказал, что мне вообще не хочется на это смотреть.
— Видите ли, какое дело, гражданин: сперва на гильотину отправляли аристократов, и все они казались очень злыми. Они-то уж не склоняли голову, и у всех у них вид был такой вызывающий, такой заносчивый, что нелегко им было нас разжалобить и довести до слез. На их казнь смотрели прямо-таки с удовольствием. Отличное было зрелище — борьба мужественных врагов нации со смертью. Но как-то раз я увидела, что на повозку взбирается старик, и голова его ударяется о стенки повозки. Просто жалость брала смотреть на него. На следующий день я увидела монашек. Еще через день я увидела мальчонку лет четырнадцати, и в конце концов увидела в одной повозке молоденькую девушку, а в другой — ее мать, и эти две бедняжки посылали друг другу воздушные поцелуи и ни словечка не говорили. Они были такие бледненькие, и глаза у них были такие печальные, и такая обреченная улыбка была на их губах, а пальцами они шевелили только для того, чтобы послать воздушный поцелуй, и так они дрожали и такие были белые-белые, что до самой смерти я этого ужасного зрелища не забуду, и вот тогда-то я и поклялась, что никогда больше не буду смотреть на это.
— А-а! — сказал Гофман, отходя от окна. — Это было так же, как сейчас?
— Да, гражданин. Эй! Что вы делаете?
— Закрываю окно.
— Зачем?
— Чтобы не видеть этого.
— Да ведь вы же мужчина!
— Видите ли, гражданка, я приехал в Париж, чтобы изучать искусство и дышать воздухом свободы. Так вот: если бы, на свое несчастье, я увидел одно из тех зрелищ, о которых вы сейчас рассказывали, если бы я увидел, как увозят на смерть девушку или женщину, которым жаль расставаться с жизнью, я вспомнил бы о своей невесте, ведь я так люблю ее, гражданка, и быть может, она… Нет, гражданка, я не останусь больше в этой комнате; нет ли у вас другой — с окном на противоположную сторону?
— Тсс! Вы говорите чересчур громко, несчастный вы человек, и если вас услышат мои служители…
— Ваши служители! Что это еще за служители?
— Это республиканское название слуг.
— Ну, хорошо, а что произойдет, если ваши слуги меня услышат?
— Произойдет то, что дня через три в четыре часа пополудни я получу полную возможность увидеть вас на одной из этих повозок.
Произнеся это загадочное предсказание, добрая женщина быстро спустилась вниз. Гофман пошел следом за ней.
Он выскользнул из дому, решившись убежать от популярного зрелища любой ценой.
Когда он дошел по набережной до угла, сверкнули сабли жандармов, толпа дрогнула, люди взвыли и пустились бежать.
Гофман со всех ног помчался к улице Сен-Дени и как сумасшедший бросился бежать по ней; он, как косуля, кидался в разные стороны и, то и дело сворачивая в маленькие улочки, исчез в запутанной сети переулков: этот лабиринт тянулся от набережной Железного Лома до Рынка.
Наконец он увидел, что очутился на улице Железного Ряда, и перевел дух; чутье поэта и художника подсказало ему: вот место, известное тем, что здесь был убит Генрих IV.
Не останавливаясь, не переставая идти вперед, он добрался до середины улицы Сент-Оноре. Лавочки закрывались одна за другой. Безмолвие этого квартала приводило Гофмана в изумление: не только лавочки закрывались, но и окна некоторых домов завешивались, и притом так тщательно, словно был дан некий сигнал.
Вскоре Гофману все стало понятно; он увидел, что фиакры поворачивают на боковые улицы, он услышал конский галоп и понял, что это жандармы; позади них в спускающихся вечерних сумерках он смутно различил отвратительное скопище лохмотьев, поднятые руки, размахивающие пиками, и горящие глаза.
А посреди всего этого ехала повозка.
Этот вихрь, налетевший на Гофмана так внезапно, что тот не успел спрятаться или убежать, донес до его слуха чьи-то крики, крики до того пронзительные, до того жалостные, что ему отроду не доводилось слышать таких страшных воплей.
На повозке везли женщину, одетую в белое. Эти крики исторгали уста, душа, все ее тело, возвышавшееся над повозкой.