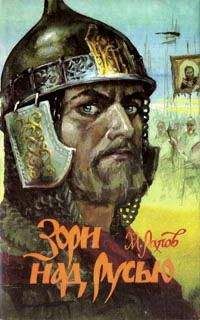— На смерть идут Пересвет и Ослябя. Ни шеломов, ни доспехов не наденут они в битву. Какими перед тобой стоят, такими и в сече будут.
— Зачем? — Дмитрий схватил Сергия за руку. — Зачем так?! Клобуки [295] и поверх шеломов надеть можно.
— Так надо! Пусть видят люди пример бесстрашия. — Сергий говорил твердо, убежденно, страстно. — Нужен пример! Не только ты, господине, но и последний отрок в полках твоих знает: великой крови течь суждено, и нужно, чтоб сердца людские от ужаса не содрогнулись, чтоб каждый готов был принять в сердце удар железа ордынского. За Русь! За Русь!
Переплелись в словах Сергия скорбь с радостью свершения того, чего всю жизнь ждал.
— Нет иного пути! — повторял он. — Только мечом поразит народ иго!
Настал час для Сергия Радонежского, когда слово его мечом стало.
23. ПОРА!
— Пора!
Семен встал. Настя кинулась к нему, уронила плат с головы, прильнула щекой к холодной стали панциря на груди у Семена. Он осторожно гладил ее волосы, целовал их. Все те же они, как и смолоду были, — густые, пушистые, цвета мытого льна, только кое–где серебристые паутинки в них запутались.
«Настя! Настя! Любимая! — Семен ласково поднял ее лицо. — И слезинки знакомые на ресницах». — Жадно поцеловал, оторвался с трудом, с болью, и также с болью сказал:
— Сына благослови.
Настя побелела. Надо бы закричать, а она только губу прикусила. Качнулась… Ваня подхватил ее.
— Матушка, нельзя так. Матушка, все ладно будет.
А в другом углу к Аленке наклонился Фома. Он, как обычно, уходил в поход из дома Мелика, оставляя Аленку с Настей.
— Ну, Аленушка, прощай!
Девушка, как осинка, затрепетала.
— Не надо так, не говори «прощай». Не могу я так.
— Ну, ну, ладно. Гляди, вон Настя с сыном прощается, смотреть на них больно, а ты…
— А я с отцом!
— С отцом?
Дрогнули косматые брови Фомы. Кто бы мог подумать, что Фома, привыкший медвежьим рыком перекликать грохот битвы, может вложить в слова такую сокровенную нежность:
— Доченька моя названная…
Давясь слезами, Аленка прошептала:
— Нет, родимая!
Фома шмыгнул, неумело ладонью вытер глаза.
— Родимая, Аленушка! — Потом выпрямился, взглянул на Семена.
— Пора?
— Пора!
Настя оторвалась от Ванюшки, первой пошла к выходу, чтоб там на дворе взять под уздцы Семенова коня, проводить мужа в поход, как жене воина пристойно.
Пропустив отца и Фому вперед, Ваня замешкался в сенях, оглянулся, одно слово промолвил:
— Аленушка!
Девушка поняла все, что хотел сказать он. Давно знала, как глядит на нее Ваня, давно поняла, с чего робеть перед ней стал, но по–девичьи делала вид, что невдомек ей. Ждала — скажет. Вот и сказал, в одно слово вложил и любовь, и боль, и надежду.
— Ванюша!..
Коротким был их первый поцелуй, много горечи было в нем.
— Только вернись! Только вернись! — шептала Аленка, а со двора крик Семена:
— Ванюшка, скоро ты там? Ехать пора!
— Не мешай им, Семен, — тихо сказал Фома…
А время не ждет, в самом деле пора. Торжественный гул колоколов поплыл из Кремля.
Голосом меди звенящей провожала Москва уходивших.
— Пора!..
Осела пыль, поднятая копытами коней; надо идти домой, а Настя как слепая, слезы не каплями падают, а широким потоком заливают глаза и щеки.
— Тетя Настя, тетя Настя! — уговаривала ее Аленка, сама захлебываясь рыданиями.
Фроловскими, Никольскими и Нижними Тимофеевскими [296] воротами полки уходили из Кремля.
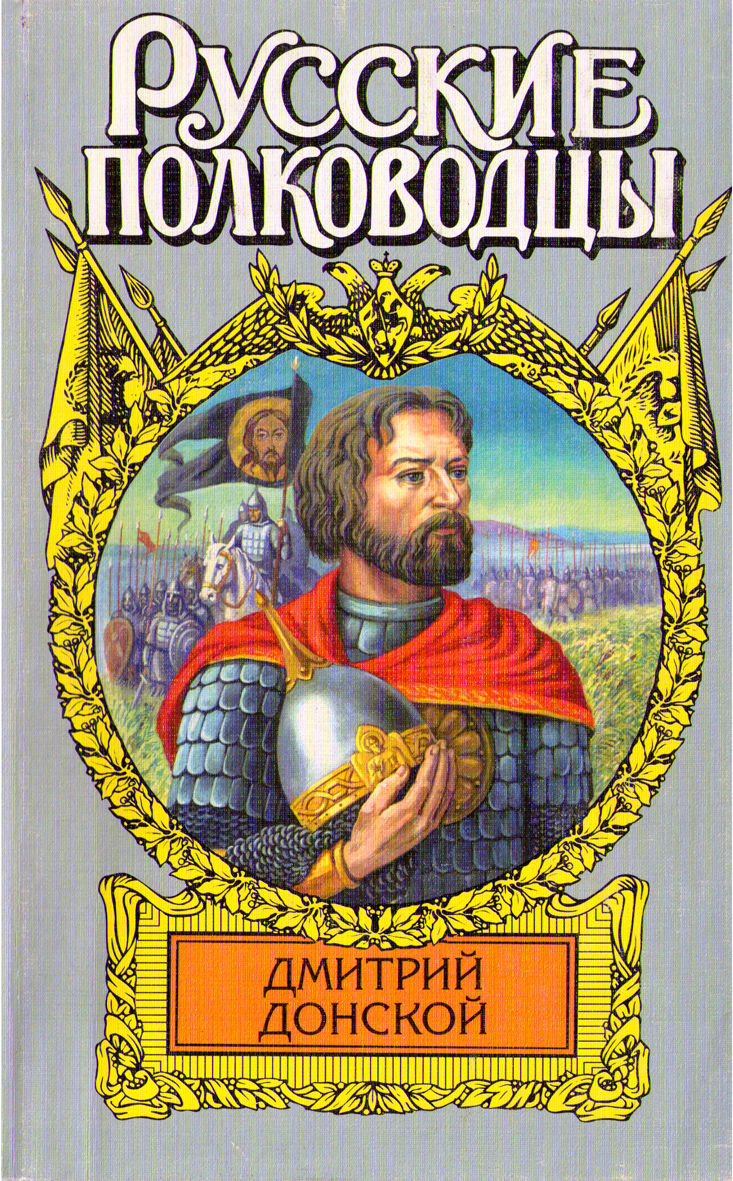


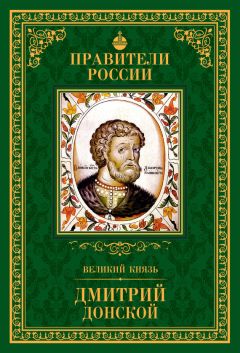
![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](https://cdn.my-library.info/books/37088/37088.jpg)