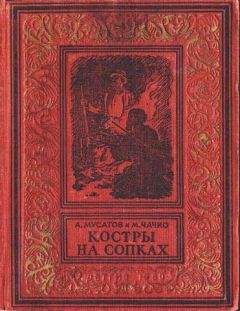В один из таких вечеров Сергей не выдержал, осторожно подошел к костру. На него вначале никто не обратил внимания, сочтя, верно, за местного жителя.
— Откуда ты, парень? — вскользь глянул на Сергея рыжеватый тощий мужичонка. — Что-то я тебя раньше не встречал.
— Издалека я, — неопределенно ответил Сергей. — Недавно приехал.
Раздвигая тяжелую, мокрую от росы траву, к костру подошла группа рыбаков и охотников.
— Дозвольте обсушиться, братцы, — попросил один из них, усатый, с ружьем за плечами. — Еще далече до Петропавловска?
Ополченцы расступились, пропустили пришедших к костру.
— Издалека шагаете, служивые?
— С Чесноковой заимки.
— Это где же такое?
— Считай, верст семьдесят отсюда, — сказал усатый. — За Верхне-Камчатским острогом.
— Эх, откуда принесло! — оживленно проговорил тощий мужичонка. — Похоже, и дальние тронулись. Со всех сторон люди поспешают. Недаром сказывают: охота пуще неволи.
“Какие люди! — думал Сергей про ополченцев. — Какая сила духа, какая изумительная способность отрешиться от личных горестей, коль скоро надвинулась, опасность для родины! И такой народ должен носить ярмо крепостного права, влачить жалкое существование, быть забитым и загнанным! Какая бессмысленность, какая несправедливость!”
Сергею Оболенскому до каторги мало приходилось встречаться с простыми людьми. Представления его о народе были весьма туманны, неопределенны. Только в ссылке он впервые встретился с людьми простого звания — с крестьянами, городскими ремесленниками, дворовыми людьми. Душевная чистота, простодушие, умение сохранить человеческое достоинство в тяжелых условиях каторжной жизни пробудили в сердце Оболенского чувство большой привязанности к народу, укрепили в нем готовность итти на все тяжкие испытания ради народного блага.
Теперь он увидел новые черты в характере русского человека: безграничную отвагу, душевную стойкость и такую огромную любовь к родному краю, что она как бы помогала простым людям забыть и бедность, и обиды, и всю приниженность своего существования.
Однажды под вечер у избушки остановились отдохнуть матроска Чайкина с сыном. Они несли на палке тяжелую корзину, наполненную корнями сараны, которые русское население, по примеру камчадалов, охотно употребляло в пищу. Корни этой травы собирали в свои норы особой породы мыши, и людям приходилось только разыскивать кладовые мышей и забирать их запасы.
— Запасаешься, Настенька? — спросил матроску Гордеев. — Наготовили тебе мыши провизии?
— Надобно, Силыч, запасаться, теперь только и время. А там начнется побоище, и в тайгу не соберешься. Народ говорит, скоро война будет.
— А ты что, воевать собираешься? — засмеялся Гордеев.
— Не смейся! — нахмурилась Настя. — Кто его знает, как дело обернется. Может, и мы, матросские жинки, сгодимся.
— Ты не обижайся, — сконфузился Гордеев, — это я к слову сказал. — Он обернулся к сыну матроски, Ване: — И ты, хлопец, воевать будешь?
— Буду, — серьезно ответил Ваня. — К пушкарям пойду.
Настя бросила сердитый взгляд на сына:
— Совсем от рук отбился, пострел! Днюет и ночует на батарее, еле за корнями узвала.
— Ты кем же там, Ваня? За бомбардира, что ли? — не унимался Гордеев.
— Делов хватает, — важно ответил мальчик. — Вчера с солдатами пушки с “Двины” на берег переправляли. Ух, и тяжелые!
— Видали? — пожаловалась Настя. — Целый день с солдатами! Вот отец вернется из плавания, он из него эту блажь вышибет.
— Не вышибет! — убежденно ответил Ваня. — Батя, он понятливый.
Когда сын отошел в сторону, Настя призналась Гордееву, что чует ее сердце беду:
— Несдобровать, видно, “Авроре”. Перехватят ее чужие корабли, да и пустят ко дну. Не видать мне своего Василия!
Матроска неожиданно всхлипнула и уткнулась в рукав.
— Ну что ты, Настюшка! — смутился Силыч. — “Аврора” — судно доброе, авось отобьется… И Василий твой жив-здоров вернется. Все хорошо будет!
— Ну, спасибо тебе, Силыч, на добром слове. — Настя вытерла глаза. — Как приедет муженек, в гости к нам милости прошу.
— Беспременно буду! — улыбнулся старик. Матроска позвала сына, и они, подняв корзину, направились к Петропавловску.
Чуть свет, когда Сергей и старик Гордеев еще спали, Маша, захватив старое кремневое ружье, отправилась пострелять рябчиков или фазанов.
Тайга просыпалась. Первый утренний ветерок пробежал по, верхушкам высоких ольх, шевельнул зеленую одежду берез, и тайга наполнилась сдержанным ропотом. Громко и несогласно защебетали птицы.
По сизой от росы траве Маша вышла к светлой березовой роще. Оттуда потянуло живительной свежестью, сладко запахло травами. Дважды у Маши из-под ног с треском вспархивали фазаны, но так стремительно исчезали в березнике, что девушка не успевала вскинуть ружье.
Маше стало досадно, что утро началось так неудачно. А она-то гадала скорехонько набить дичи, принести домой, пока все спят, пожарить ее, да не как-нибудь, а по камчадальскому способу, обернув фазанов в ароматные листья травы. А потом разбудить гостя и батюшку. Батюшка глянет на стол, потянет носом и скажет: “И откуда у нас живность такая в доме?” А потом подморгнет гостю и глазом покажет на Машу. Гость обернется к Маше, улыбнется и спросит, когда же она успела набить столько птицы.
Узкая лесная тропа завела Машу в ложбинку. Крупные бордовые ягоды рдели на кустах. Маша соблазнилась и принялась собирать малину. Где-то в отдалении закуковала кукушка. Маша повернулась на звук и топотом спросила:
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить осталось?
Кукушка куковала мерно и долго. Маша насчитала до сотни, потом сбилась и засмеялась: — Все путает… Зряшная птица!
Вдруг в стороне затрещал валежник, кто-то тяжело засопел. Маша оглянулась и обмерла: шагах в десяти от нее стоял огромный рыжеватый медведь и лакомился малиной.
Медведь, по-видимому, уже был сыт. Лапой он лениво счищал с веток ягоды вместе с листьями и отправлял их в рот. Время от времени он чесал за ухом или, задрав голову вверх, замирал, точно тоже слушал кукушку.
Маша схватилась за ружье. Но вот медведь повернул голову направо и встретился с Машей взглядом. Маша не помнила, как долго они смотрели друг на друга, но только ей показалось, что глаза у медведя были жалобные и просящие. “Я ведь тебе не мешаю. Иди своей дорогой”, казалось, говорили они, и Маша невольно опустила ружье. Медведь повернулся и лениво, вразвалку, полез в гущу малинника. Маша попятилась, выбралась из малинника и помчалась к избушке.