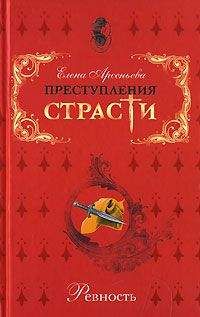— Так я и думал, — сказал д’Артаньян.
— Впрочем, друг мой, все, что я скажу вам, — это лишь речи скромного монаха, человека, который, как эхо, просто повторяет все, что слышит от других. Я слышал, что в настоящую минуту кардинал Мазарини очень обеспокоен оборотом дел. По-видимому, его распоряжения не пользуются тем уважением, с каким прежде относились к приказаниям нашего былого пугала, покойного кардинала, чей портрет вы здесь видите; ибо, что ни говори, а, нужно признаться, он был великий человек.
— В этом я вам не буду противоречить, милый Арамис. Ведь это он произвел меня в лейтенанты.
— Сначала я был всецело на стороне нового кардинала; я говорил себе, что министр никогда не пользуется любовью и что, обладая большим умом, какой ему приписывают, он в конце концов все же восторжествует над своими врагами и заставит бояться себя, что, по-моему, пожалуй, лучше, чем заставить полюбить себя.
Д’Артаньян кивнул головой в знак того, что вполне согласен с этим сомнительным суждением.
— Вот каково, — продолжал Арамис, — было мое первоначальное мнение; но так как обет смирения, данный мною, обязывает меня не полагаться на собственное мнение, то я навел справки, и вот, мой друг…
Арамис умолк.
— Что — и вот?
— И вот, я должен был смирить свою гордыню; оказалось, что я ошибся.
— В самом деле?
— Да. Я навел справки, как уже вам говорил, и вот что ответили мне многие лица, совершенно различных взглядов и намерений: «Господин де Мазарини вовсе не такой гениальный человек, каким вы его себе воображаете».
— Неужели? — сказал д’Артаньян.
— Да. Это ничтожная личность, бывший лакей кардинала Бентиволио, путем интриг вылезший в люди; выскочка, человек без имени, он думает не о Франции, а только о самом себе. Он награбит денег, разворует казну короля, выплатит самому себе все пенсии, которые покойный кардинал Ришелье щедро раздавал направо и налево, но ему не суждено управлять страной ни по праву сильного, ни по праву человека великого, ни даже по праву человека, пользующегося всеобщим уважением. Кроме того, по-видимому, у этого министра нет ни благородного сердца, ни благородных манер, это какой-то комедиант, Пульчинелло, Панталоне. Вы его знаете? Я совсем не знаю.
— Гм, — ответил д’Артаньян, — в том, что вы говорите, есть доля правды.
— Мне очень лестно, что благодаря природной проницательности мне удалось сойтись во взглядах с вами — человеком, живущим при дворе.
— Но вы говорили мне о его личности, а не о его партии, не о его друзьях.
— Это правда. За него стоит королева.
— А это, мне кажется, уже кое-чего стоит.
— Но король не за него.
— Ребенок!
— Ребенок, который через четыре года будет совершеннолетним.
— Дело в настоящем.
— Да, но настоящее не будущее; да и в настоящем он не имеет на своей стороне ни парламента, ни народа, то есть — денег; ни дворянства, ни знати, то есть — шпаги.
Д’Артаньян почесал за ухом. Он должен был сознаться, что это не только глубокая, но и верная мысль.
— Вот видите, дружище, я еще не потерял своей обычной проницательности. Может быть, я напрасно говорю с вами так откровенно: мне кажется, вы склоняетесь на сторону Мазарини.
— Я? — вскричал д’Артаньян. — Ничуть!
— Вы говорили о поручении.
— Разве я говорил о поручении? В таком случае я плохо выразился. Нет, я всегда думал то же, что вы. Дела запутались; не бросить ли нам перо по ветру и не пойти ли в ту сторону, куда ветер понесет его? Вернемся к прежней жизни приключений. Нас было четыре смелых рыцаря, четыре связанных дружбой сердца, соединим снова не сердца, — потому что сердца наши всегда оставались неразлучными, — но нашу судьбу и мужество. Представляется случай приобрести нечто получше алмаза.
— Вы правы, д’Артаньян, совершенно правы, — ответил Арамис, — и доказательство я вижу в том, что у меня самого была та же мысль. Только мне она была подсказана другими, так как я не обладаю вашим живым и неистощимым воображением: в наше время все нуждаются в посредниках. Мне было сделано предложение: кое-что из наших былых подвигов стало известно, и затем, скажу вам откровенно, я проболтался коадъютору.
— Господину де Гонди, врагу кардинала? — вскричал д’Артаньян.
— Нет, другу короля, — ответил Арамис, — другу короля, понимаете? Так вот, требуется послужить королю, а это — долг каждого дворянина.
— Но ведь король заодно с Мазарини, мой дорогой.
— На деле — так, но против воли; поступками, но не сердцем. В этом и состоит западня, которую враги короля готовят бедному ребенку.
— Вот как! Но вы предлагаете мне просто-напросто междоусобную войну, милый Арамис!
— Войну за короля.
— Но король встанет во главе той армии, где будет Мазарини.
— А сердце его останется в армии, которой будет командовать господин де Бофор.
— Господин де Бофор! Он в Венсенском замке.
— Разве я сказал — Бофор? Ну, не Бофор, так кто-нибудь другой; не Бофор, так принц Конде.
— Но принц уезжает в действующую армию, и он всецело предан кардиналу.
— Гм-гм! — ответил Арамис. — У них сейчас как раз какие-то нелады. Но даже если и не принц, то хотя бы господин де Гонди…
— Господин де Гонди не сегодня-завтра будет кардиналом; для него испрашивают кардинальскую шапку.
— Разве не бывало воинственных кардиналов? — сказал Арамис. — Поглядите на стены: вокруг вас четыре кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гебриана и Гассиона.
— Хорош будет горбатый полководец!
— Горб скроют латы. К тому же вспомните, Александр хромал, а Ганнибал был одноглазым.
— Вы думаете, эта партия доставит вам большие выгоды? — спросил д’Артаньян.
— Она мне доставит покровительство могущественных людей.
— И проскрипции правительства?
— Парламент и мятежи помогут их отменить.
— Все, что вы говорите, могло бы осуществиться, если б удалось разлучить короля с его матерью.
— Этого, может быть, добьются.
— Никогда! — вскричал д’Артаньян с убеждением. — Вы сами тому свидетель, Арамис, вы, знающий Анну Австрийскую так же хорошо, как я. Думаете вы, что она когда-нибудь способна забыть, что сын ее опора, ее защита, залог ее благополучия, ее счастья, ее жизни? Ей следовало бы перейти вместе с ним на сторону знати и бросить Мазарини, но вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что у нее есть серьезные причины не покидать его.
— Может быть, вы правы, — задумчиво сказал Арамис. — Я, пожалуй, к ним не примкну…
— К ним! А ко мне? — сказал д’Артаньян.