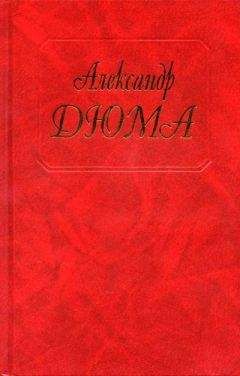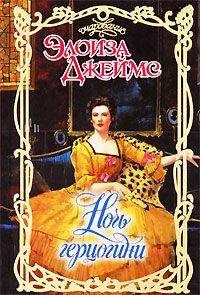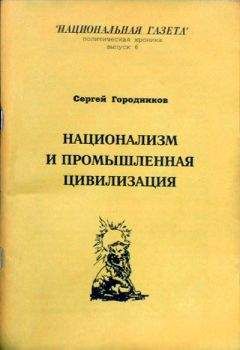Именно твердость вызова, мимоходом брошенного ему, должна была успокоить Самуила. И она его успокоила.
Вошел лакей и объявил, что кушать подано.
Лорд Драммонд предложил Олимпии руку, и все направились в столовую.
— Я вел себя как безумец, не правда ли? — шепнул Юлиус Самуилу.
— Черт возьми, у меня было поначалу то же впечатление, что у тебя, — отвечал Самуил. — Но сходство проверки не выдерживает.
— Увы! — вздохнул Юлиус.
И по приглашению лорда Драммонда он уселся за стол справа от Олимпии.
Вначале разговор был общим. За первым блюдом говорили преимущественно о политике. Предметом беседы стали формы государственного правления, и англичане пустились в пространные пылкие восхваления власти монарха и аристократии в своей стране. Банкир, депутат и адвокат-историк присоединились к этим похвалам, согласившись, что человечеству нечего желать лучшей доли, чем освященное Хартией благосостояние нескольких тысяч избранных, основанное на нищете всех остальных. Однако, по мнению этих половинчатых революционеров, отныне богатство и способности также должны стать пропуском в круг привилегированных, так что понятие аристократизма должно быть самым решительным образом расширено за счет включения в него буржуазии.
Самуил Гельб в своей обычной насмешливой манере принялся дополнять и развивать утверждения этих защитников народа. Да, он готов поклясться, что существуют два класса людей: те, что созданы повелевать, наслаждаться, быть депутатами и министрами, блистать в обществе, занимать почетные места, иметь образование и досуг, и чернь, составляющая самое меньшее три четверти населения, которая самим Провидением приговорена вечно влачить тяжкую ношу, потеть, пресмыкаться в невежестве и терпеть лишения, будучи не более чем навозом, утучняющим ниву процветания других. Он способен признать, что революции имеют некоторый смысл, но при одном только условии: их следствием может стать лишь замена одного министра или даже одного короля другим, но уж никак — не монархии народовластием, ибо недопустимы попытки расширять понятие власти настолько, чтобы вся нация в целом пришла к управлению.
Маленький историк-южанин с живостью кивал в знак согласия.
По сравнению с убожеством подобных разглагольствований ужин особенно поражал блеском и артистическим разнообразием. Живые розы и камелии в больших вазах распространяли свой аромат, изысканные серебряные блюда времен Людовика XV ласкали глаз своей тонкой резьбой. Подсвечники походили на деревца с серебряной листвой, среди которой расцветали огненные цветы. Вскоре под воздействием кушаний и редких вин сотрапезники оживились, беседа стала вольнее, причудливее, натянутость исчезла, и каждый отдался течению своей мысли.
Гамба весело жестикулировал. Он рассказал историю суфлера из Сан Карло, который, однажды увидев его на канате, воспылал желанием научиться тому же и целый год с упрямой неуклонностью возобновлял свои попытки, ломая себя ноги по два-три раза каждый месяц, но ни разу так и не сумев удержать равновесие хотя бы секунду. Несмотря на серьезные физиономии персон, сидящих за столом, Гамба, разгоряченный воспоминаниями, не смог удержаться от проявлений своего дурного вкуса и до того забылся, что даже вскочил на спинку стула с целью изобразить уморительные позы и гримасы несчастного суфлера, шатающегося на канате.
Сотрапезники дружно рассмеялись, и более всего над самим Гамбой.
Что касается Олимпии, то она во все продолжение ужина оставалась сдержанной и серьезной. Всем, кто с ней заговаривал, она отвечала весьма умно, и ее замечания были глубоки. Юлиус мало-помалу стал ощущать, что ее меланхоличная, строгая фация все больше пленяет его. Когда винные пары и легкая беседа возвратили ему присутствие духа, он обратился к ней с восхищением, почти страстно:
— Я слышал вас однажды вечером на балу у госпожи герцогини Беррийской, и мне казалось, что за всю свою жизнь я не смогу более испытать ничего подобного. А сегодня вечером я вас увидел и понял, что ошибался.
Когда ужин закончился, гости поднялись из-за стола и перешли в гостиную.
Юлиус предложил певице руку и, подведя ее к огню, сам сел рядом.
— Так что же, собственно, вы сказали мне по-немецки, когда я вошла сюда? — поинтересовалась она.
Лицо его омрачилось и стало суровым.
— Ах, не пробуждайте во мне этих мыслей! — вздохнул он. — Вы, привидение из плоти и крови, столь же реальное, сколь чарующее, напомнили мне единственную женщину, которую я любил в жизни.
— О! Единственную? — отвечала Олимпия с усмешкой, полной пренебрежительного сомнения. — Ваше превосходительство рискует повредить своей репутации.
— Какой репутации? — не понял он.
— Я не настолько далека от света, — произнесла она с оттенком горечи, — чтобы не слышать о победах некоего богача, человека больших страстей, чьи похождения в течение пятнадцати лет гремели при венском дворе. Вы очень забывчивы, если ничего не сохранили в своей памяти о столь многих женщинах, что доныне вспоминают вас.
— Вы так думаете? — возразил Юлиус. — А что вы скажете, если, тем не менее, я повторю вам, что мое сердце никогда не принадлежало никому, кроме одной-единственной, и мысль о ней живет и будет жить в моей душе до тех пор, пока я существую?
— Даже сегодня вечером, при всех галантных уверениях и восторгах, которыми вы меня осыпали? — спросила Олимпия дрогнувшим голосом.
— О, вы, — пробормотал он, — это совсем другое дело!
— Э, наверно, вы каждой очередной даме говорите то же самое: «С вами все совсем по-другому!»
Но Олимпия могла сколько угодно язвить его своим насмешливым, почти жестоким тоном, Юлиус все равно чувствовал, что с каждой минутой все сильнее подпадает под власть красоты, грации и ума этой странной женщины, которая, конечно, не была Христианой, но походила на нее, словно старшая сестра.
Остальные сотрапезники лорда Драммонда, приблизившись к певице, нарушили их уединение. А затем, когда стало смеркаться, гости один за другим стали расходиться.
Юлиус и сам уж собирался откланяться, вырваться из сетей странного очарования, удерживавшего его подле Олимпии, когда вошел слуга и доложил, что секретарь посольства явился к графу фон Эбербаху по срочному делу.
Лорд Драммонд распорядился, чтобы секретаря пригласили войти.
И он вошел. Это был Лотарио.
Оказалось, курьер из Берлина привез депешу, которую было велено тотчас передать графу фон Эбербаху.
Юлиус распечатал ее и стал читать.
— Что-то серьезное? — поинтересовался Самуил.