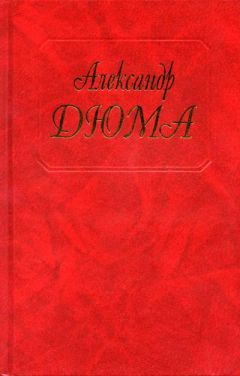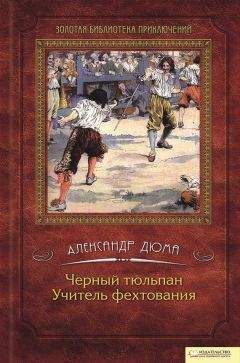— Смерть?! — вскрикнул старик. — Мое дитя! Мое несчастное дитя!
Послышался вопль старухи матери, проникнутый такой глубокой скорбью, что пьемонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора.
— О герцогиня! — взмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гизов. — Вступитесь за нашего ребенка, а мы вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах!
— Пусть он перейдет в католичество! — сказала дама из особняка Гизов.
— Я протестант, — ответил юноша.
— Тогда умри, раз тебе недорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица!
Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой сына.
— Сын мой, мой Оливье! Отрекись… отрекись! — взывала к нему мать.
— Отрекись, сынок! Не оставляй нас одинокими на свете, — кричал Меркандон, валяясь в ногах у Коконнаса.
— Отрекайтесь все трое! — воскликнул Коконнас. — Спасение трех душ и одной жизни за «Верую»!
— Согласны! — воскликнули Меркандон и его жена.
— На колени! — приказал Коконнас. — И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово.
Отец первым стал на колени.
— Я готов, — ответил сын и тоже опустился на колени.
Коконнас начал произносить латинские слова молитвы. Случайно или намеренно, но только юный Оливье стал на колени у того места, куда отлетела его шпага. Как только юноша сообразил, что может достать до нее рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул руку к шпаге. Коконнас заметил его маневр, но не подал виду. Когда же юноша дотронулся кончиками пальцев до рукояти шпаги, Коконнас бросился на него, повалил на землю и со словами: «A-а! Предатель!» — вонзил ему в горло кинжал.
Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал замертво.
— Палач! — крикнул Меркандон. — Ты убиваешь нас, чтобы украсть сто ноблей, которые нам должен.
— Честное слово, нет! — возразил Коконнас. — Я докажу…
С этими словами пьемонтец швырнул к ногам старика кошелек, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу.
— И доказал! — продолжал Коконнас. — Вот ваши деньги.
— А вот твоя смерть! — крикнула мать из своего окна.
— Берегитесь! Берегитесь, господин Коконнас! — воскликнула дама из особняка Гиза.
Не успел Коконнас повернуть голову, чтобы, вняв предостережениям дамы, избежать грозившей опасности, как тяжелая каменная глыба со свистом прорезала воздух, плашмя упала на шляпу храбреца, сломала шпагу, а самого его свалила на мостовую, где он и распростерся, оглушенный ударом, потеряв сознание, не слыша ни крика радости, ни крика отчаяния, раздавшихся одновременно с левой и с правой стороны.
Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств. Но в тот же миг дверь в доме Гизов распахнулась, и Меркандон, завидев блеск шпаги протазанов, убежал. А в это время дама, названная им герцогиней, наполовину высунулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрою самоцветов и алмазов; она указывала рукой на Коконнаса, крича вышедшим из дома людям:
— Здесь, здесь! Против меня! Дворянин в красном колете… Да, этот, этот!..
X
СМЕРТЬ, ОБЕДНЯ ИЛИ БАСТИЛИЯ
Как читателю уже известно, Маргарита, заперев дверь, вернулась к себе. Но когда она с трепетом входила в спальню, прежде всего ей в глаза бросилась Жийона, которая в ужасе прижалась к двери кабинета, глядя на пятна крови на мебели, постели и ковре.
— Ох, мадам! — воскликнула она, увидев королеву. — Неужели он умер?
— Тише, Жийона, — ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость исполнения такого требования.
Жийона умолкла. Маргарита вынула из кошелька золоченый ключик и, отворив дверь в кабинет, указала приближенной даме на молодого человека.
Ла Моль с трудом встал и подошел к окну. Под руку ему попался маленький кинжал, какие в те времена носили женщины, и он схватил его, услышав, что отпирают дверь.
— Месье, не бойтесь ничего, — сказала Маргарита. — Клянусь, вы в безопасности!
Ла Моль упал на колени.
— О ваше величество, — воскликнул он. — Вы для меня больше, чем королева! Вы — божество.
— Не волнуйтесь так, месье, — сказала королева, — у вас еще продолжается кровотечение… Взгляни, Жийона, как он бледен. Послушайте, куда вы ранены?
— Ваше величество, — говорил Ла Моль, стараясь разобраться в охватившей все тело боли и установить главные болевые точки, — помнится, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй — в грудь; все остальные раны не стоят внимания.
— Это мы увидим, — ответила Маргарита. — Жийона, принеси мне шкатулочку с бальзамами.
Жийона вышла и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой — серебряный позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна.
— Помоги мне приподнять его, — сказала Маргарита, — не то он лишится последних сил.
— Ваше величество, я так смущен… я, право, не могу позволить…
— Я надеюсь, месье, вы не будете мешать нам делать наше дело, — сказала Маргарита. — Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть.
— О, я предпочел бы скорее умереть, — воскликнул Ла Моль, — чем видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови!.. О, ни за что! Ни за что!
И он почтительно отстранился от нее.
— Ах, дорогой мой дворянин, — улыбаясь, ответила Жийона, — да вы уже испачкали своею кровью и постель, и всю комнату ее величества.
Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшем кровяными пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Ла Молю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву, и легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши.
— Ваше величество, — слабым голосом проговорил он, — разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу?
— Хирургу-католику, да? — спросила королева таким тоном, что Ла Моль вздрогнул.
— Разве вы не знаете, — продолжала Маргарита с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде, — что в воспитание королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготовлять целебные бальзамы? Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И — как, по крайней мере, уверяют наши льстецы — мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слухи о моем искусстве врачевания? Ну, Жийона, примемся за дело!
Ла Моль еще пытался сопротивляться, повторяя, что предпочитает умереть, чем возлагать на королеву такой труд, что ее заботы, вызванные состраданием, могут после возбудить отвращение к нему. Но это сопротивление только истощило его силы — глаза его закрылись, голова откинулась назад, и он опять лишился чувств.