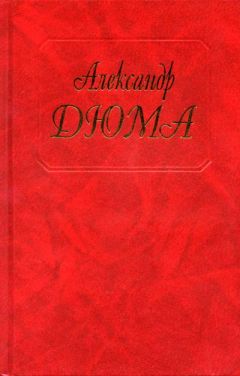— Тем лучше, — заметил Габриэль.
Алоиза подумала, что он еще бредит. Но на другой день он отчетливо и твердо спросил у нее:
— Я не спросил тебя вчера, вернулся ли из Италии герцог де Гиз?
— Он находится в пути, ваше сиятельство, — ответила, удивившись, Алоиза.
— Хорошо. Какой сегодня день, кормилица?
— Вторник, четвертое августа, ваше сиятельство.
— Седьмого исполнится два месяца, как я лежу на этом одре, — продолжал он.
— О, значит вы это помните! — встрепенулась Алоиза.
— Да, помню, Алоиза, помню. Но если я ничего не забыл, — грустно заметил он, — то меня, кажется, забыли. Никто не приходил обо мне справляться?
— Что вы, ваше сиятельство! — дрогнувшим голосом ответила Алоиза, с тревогой следя за выражением его лица. — Служанка Жасента дважды в день приходила узнавать, как вы чувствуете себя. Но вот уже две недели — с тех пор, как вы заметно стали поправляться, — она не появлялась.
— Не появлялась!.. И не знаешь, почему?
— Знаю. Ее госпожа, как мне сообщила в последний раз Жасента, получила от государя позволение уединиться в монастыре до конца войны.
— Вот как? — произнес Габриэль с мягкой и печальной улыбкой.
По щеке его медленно скатилась одинокая слеза, первая за два месяца, и он обронил:
— Милая Диана!
— О, ваше сиятельство, — воскликнула Алоиза, — вы произнесли это имя! И без содрогания, без обморока. Мэтр Нотрдам ошибся! Вы спасены! Вы будете жить, и мне не понадобится нарушить клятву!
Бедная кормилица обезумела от радости. Но Габриэль, по счастью, не понял ее последних слов. Он только сказал с горькой усмешкой:
— Да, я спасен, и все же, бедная моя Алоиза, жить я не буду.
— Как же так, ваше сиятельство? — вздрогнула Алоиза.
— Тело выдержало удар мужественно, — продолжал Габриэль, — но душа… Ты думаешь, она ранена не смертельно? Я, конечно, оправлюсь от этой долгой болезни… Но на границе, по счастью, идут бои, я — капитан гвардии, и мое место там, где сражаются. Едва я смогу сесть на коня, я поеду туда, где мое место. И в первом же сражении сделаю так, что сражаться мне больше не придется.
— Вы подставите грудь под пули? Господи! Но почему же, ваше сиятельство, почему?
— Почему? Потому что госпожа де Пуатье не сказала мне ничего, Алоиза; потому что Диана, быть может, моя сестра, и я люблю Диану! И еще потому, что король, быть может, повелел убить моего отца, а покарать короля, не имея улик, я не могу. И если я не могу ни отомстить за отца, ни жениться на своей сестре, тогда что же делать мне на этом свете? Вот почему я хочу покинуть его!
— Нет, вы его не покинете, ваше сиятельство, — глухо отозвалась Алоиза, скорбная и мрачная. — Вы его не покинете как раз потому, что вам предстоит еще много дел, и дел страшных, ручаюсь вам… Но говорить об этом с вами я буду только тогда, когда вы совершенно выздоровеете и мэтр Нострадамус подтвердит мне, что вы сможете выслушать меня.
Этот момент наступил во вторник на следующей неделе. Габриэль уже выходил из дому, готовясь к отъезду, и Нострадамус в этот день обещал навестить своего пациента в последний раз.
Когда в комнате никого не было, Алоиза спросила Габриэля:
— Ваше сиятельство, вы еще не отказались от своего отчаянного решения, которое приняли? Оно еще остается в силе?
— Остается, — кивнул Габриэль.
— Итак, вы ищете смерти?
— Ищу.
— Вы собираетесь умереть потому, что лишены всякой возможности узнать, сестра ли вам госпожа де Кастро?
— Да.
— Вы не забыли, что говорила я вам о том пути, который может привести к разгадке этой страшной тайны?
— Конечно, не забыл. Ты говорила, что в эту тайну посвящены только двое — Диана де Пуатье и мой отец, граф Монтгомери. Я просил, заклинал госпожу де Валантинуа, я ей грозил, но ушел от нее в еще большем смятении и отчаянии, чем пришел…
— Но вы говорили, ваше сиятельство, что, если бы вам понадобилось спуститься в могилу к отцу для разгадки этой тайны, вы бы и туда сошли без страха…
— Но ведь я даже не знаю, где его могила!
— И я не знаю, но ее надо искать.
— А если я и найду ее? — воскликнул Габриэль. — Разве Бог сотворит для меня чудо? Мертвые молчат, Алоиза.
— Мертвые, но не живые.
— О Боже, как тебя понять? — побледнел Габриэль.
— Понять так, что вы не граф Монтгомери, как вы себя не раз называли в бреду, а только виконт Монтгомери, ибо ваш отец, граф Монтгомери, возможно, еще жив.
— Земля и Небо! Ты знаешь, что он жив?
— Этого я не знаю, но так предполагаю и на это надеюсь, господин виконт… Ведь он был сильный, мужественный человек и, так же как и вы, достойно боролся с несчастьем и страданиями. А если он жив, то не откажется, как отказалась герцогиня Валантинуа, открыть вам тайну, от которой зависит ваше счастье.
— Но где найти его? Кого просить об этом? Алоиза, ради Создателя, говори!
— Это страшная история, господин виконт… И по приказу вашего отца я поклялась своему мужу никогда вас не посвящать в нее, потому что, едва она станет известна вам, вы очертя голову подвергнете себя чудовищным опасностям! Вы объявите войну врагам, которые во сто крат сильнее вас. Но и самая отчаянная опасность лучше верной смерти. Вы приняли решение умереть, и я знаю, что вы не отступитесь перед этим. И я рассудила, что лучше уж подтолкнуть вас на эту невероятно трудную борьбу… Тогда, по крайней мере, вы, может, и уцелеете… Итак, я вам все расскажу, господин виконт, а Господь Бог, быть может, простит меня за клятвопреступление.
— Да, несомненно простит, моя добрая Алоиза… Отец! Мой отец жив!.. Говори же скорее!
Но в это время послышался осторожный стук в дверь, и вошел Нострадамус.
— О, господин д’Эксмес, каким бодрым и оживленным я вас застаю! — обратился он к Габриэлю. — В добрый час! Не таким вы были месяц назад. Вы, кажется, совсем готовы выступить в поход?
— Выступить в поход? Вы правы, — ответил Габриэль, устремив горящий взгляд на Алоизу.
— Тогда врачу здесь больше нечего делать, как я вижу, — улыбнулся Нострадамус.
— Только принять мою признательность, мэтр, и… я не смею это назвать оплатою ваших услуг, ибо в известных случаях за жизнь не платят…
И Габриэль, пожав руки врачу, вложил в них столбик золотых монет.
— Благодарствуйте, виконт, — сказал Нострадамус, — но позвольте и мне сделать вам подарок, не лишенный, по-моему, ценности.
— Что за подарок, мэтр?
— Вы знаете, господин виконт, что я изучал не только болезни людей; мне хотелось видеть дальше и глубже, хотелось проникнуть в их судьбы. Задача, исполненная сомнений и неясностей! Я не внес в нее света, но иной раз, думается мне, замечал в ней некоторые проблески. Согласно моему убеждению, Бог дважды предначертывает всеобъемлющий план каждой человеческой судьбы: в светилах неба — родины человека и в линиях его руки — путаной, зашифрованной книги, которую человек всегда носит с собою, но не умеет читать ее даже по складам, если не проделал предварительно бесчисленных исследований. Много дней и много ночей посвятил я, господин виконт, изучению этих двух наук — хиромантии и астрологии. Я прозревал грядущее, и, быть может, некоторые мои пророчества удивят людей, которые будут жить через тысячу лет. Однако я знаю, что истина проскальзывает в них только мельком… Тем не менее я уверен, что у меня бывают минуты ясновидения, виконт. В одну из этих слишком редких минут, двадцать пять лет назад, я узрел судьбу одного из придворных короля Франциска, ясно начертанную в аспекте светил и в сложных линиях его руки. Эта странная, причудливая, грозная судьба поразила меня. Представьте себе мое изумление, когда на вашей ладони и в аспекте ваших планет я различил гороскоп, сходный с тем, что меня так поразил когда-то. Но прошедшие двадцать пять лет затуманили его в моей памяти. Наконец, с месяц назад, господин виконт, вы в бреду произнесли одно имя. Я расслышал только имя, но оно ошеломило меня: имя графа де Монтгомери.