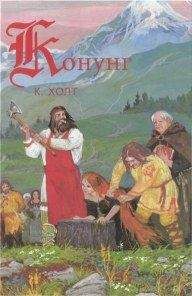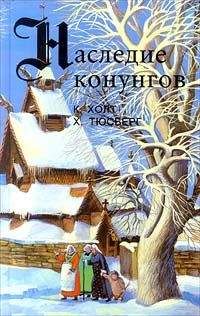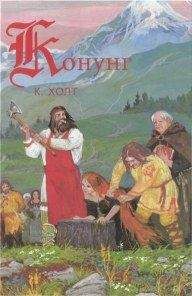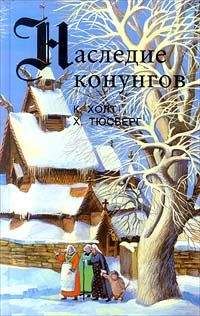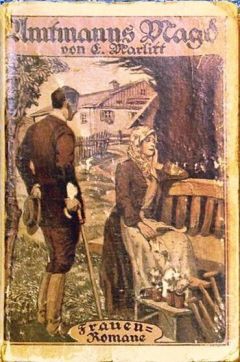Я вздрагиваю и быстро оборачиваюсь к нему. Он говорит тихо и невнятно, словно выкашливает каждое слово. Говорит, что конунг должен собрать своих людей на берегу и сказать им: Я несправедливо обошелся с Йоном. После Сигурда он самый близкий к конунгу человек. Хёвдинг теламёркцев идет после Йона.
— Если конунг так скажет, я не буду требовать от него вознаграждения за ущерб.
— Это невозможно! — кричу я.
— Я знаю, — говорит он.
— Тогда зачем ты этого требуешь?
— Потому что это моя цена, — отвечает он.
Все, я проиграл, мы оба молчим. И не смотрим друг на друга. Я знаю, что время идет и что еще до рассвета мы должны покинуть наш лагерь.
***
Я начинаю говорить о Киркьюбё, из которого мы со Сверриром уехали очень давно. О моей доброй матушке, фру Раннвейг, ходившей по протоптанным ею тропинкам между хлевом и пекарней и между берегом, где она собирала водоросли на корм скоту, и пастбищем, где она пасла его. Нынче я ничего не знаю о ней. Ничего не знаю о ее боли и горе, о ее мыслях под звездами, об ее одиночестве на ветру, о солнечном свете, который еще может осенять красотой ее старое лицо. Я говорю и об епископе Хрои, этом добром, но не сильном человеке, о котором нельзя сказать, что ему была известна великая истина. Но он был усердным и незаметным тружеником в том винограднике, над которым судьба поставила его господином, у него было доброе сердце и да благословит его Сын Божий, от которого не укроется ничего. И еще об Астрид.
О той молодой и красивой женщине, которая была любовницей Сверрира, а потом стала его женой и подарила ему двух сыновей. О моей зависти и о страстном желании обладать ее молодым и прекрасным телом. Только раз я видел его во всей его чистоте, не скрытое одеждой, видел ее влажные губы и обнаженные плечи, откинутые на ложе, которое принадлежало не мне. Да! И больше ни разу, но никто не должен знать об этом. Считай, что я ничего не сказал тебе.
Он хочет привезти ее сюда.
Ее и их двух сыновей. Нет, нет, моя добрая матушка, фру Раннвейг, никогда не приедет сюда. Ты понимаешь, что я с трепетом жду того дня, когда Астрид сойдет на берег и не заметит меня, потому что первым увидит его. Но я увижу ее.
Ты понимаешь меня?
Будешь молчать о том, что я рассказал тебе?
Йон встает, протягивает мне руку. Мы стоим друг перед другом, два воина — одна судьба. Теперь я знаю, что он пойдет со мной.
***
Тогда в покои входит фру Гудрун, его старая, седовласая и суровая мать. Она наливает сыну пива, мне — нет. И уходит, не взглянув на меня.
Йон садится, им опять овладела брюзгливость.
Мы сидим вместе и молчим, проходит час. Я пробую молиться, но не верю, что это поможет, мне кажется, будто я вот-вот скорчу Сыну Божьему рожу и скажу ему: Видишь, ты бессилен. Во дворе слышится чей-то голос.
В дом заходит Эрлинг сын Олава из Рэ, тот, что ездил с Сигурдом к ярлу Биргиру за оружием. Эрлинг пришел с сообщением. Он передает его четко и коротко. Сигурд отдает младшему брату Йону право на усадьбу. Но за это Йон должен вернуться к конунгу со всеми своими людьми.
Йон говорит:
— Я не поступлю несправедливо с моим братом, если он по глупости несправедлив сам к себе.
Он встает в возбуждении, мне кажется, что сейчас он видит перед собой брата и говорит ему:
— Ты думаешь, я могу забрать у тебя усадьбу? Думаешь, я имею право нарушить закон, потому что конунг нарушил данное мне слово? И разве у тебя нет сына? Разве я имею право отобрать усадьбу у твоего сына и отдать ее своему, если у меня когда-нибудь будет сын? Да или нет? Ведь, если я отберу у тебя усадьбу, я тем самым отберу ее и у твоего сына. А если я так поступлю, будешь ли ты потом вправе отобрать ее у моего сына и отдать своему? Да или нет? Что скажешь? — Он поворачивается к брату, которого тут нет, и презрительно смеется в темноте, не замечая ни Эрлинга сына Олава из Рэ, ни меня.
Я мигаю Эрлингу, и он уходит. Он пришел сюда с богатым даром, а уходит, как нищий.
Значит, все бесполезно, но теперь я рассердился. Я подхожу к очагу и делаю то, что не имею права делать в чужом доме: я ворошу в очаге угли так, чтобы вспыхнул огонь.
— Из-за своей брюзгливости ты забываешь о гостеприимстве, — говорю я. — Но раз я знаю, что это не твоя усадьба и что она не будет твоей, то нельзя считать, что я обошелся с тобой неучтиво.
Он встает, и я, не скрывая презрения, сажусь на почетное сиденье, где только что сидел он.
— Ведь это не твое почетное сиденье? — говорю я, передразнивая его. — Если усадьба не твоя, то и почетное сиденье не твое, да или нет? Если усадьба не твоя, то у тебя нет права сидеть на почетном сиденье! Да или нет, Йон из Сальтнеса?
Он не отвечает, от него разит брюзгливостью, он пропитан ею насквозь. Я встаю и начинаю ходить вокруг стола. Выглядываю в волоковое оконце, словно хочу увидеть звезды.
— Уже полночь, — говорю я, — пока еще никто не смеется над тобой. Но скоро тебя поднимут на смех.
Он вскидывает на меня глаза — вот оно, слабое место в его непроницаемом плаще брюзгливости. Я говорю, что люди, конечно, будут смеяться над ним.
— Пусть не завтра, когда конунг поведет нас в сражение, а ведь ты знаешь, каков будет его исход: без твоих людей нам не победить. Но те, кто переживут это сражение, — все погибнуть не могут, — будут смеяться над тобой. Они не возненавидят тебя, хотя найдутся и такие, но смеяться будут. Смеяться над твоей брюзгливостью, над тем, что ты мог стать наместником конунга в Нидаросе, но отказался только из-за своей брюзгливости. Из-за того, что ты дуешься по пустякам.
Над тобой будут смеяться и в дружине ярла Эрлинга, и за его столом, и на его зимних пирах за рогом пива. Все будут смеяться над воином, который из-за своей брюзгливости предпочел отправиться в ад. Который сидел в своей родовой усадьбе кислый, как вчерашнее молоко. А потом будет написана сага, в этом не сомневайся, и скальды сочинят о тебе уничижительные висы, какие сочиняют обо всех, кто им не по душе. Они-то не упустят случая сочинить висы о таком отъявленном брюзге.
Йон весь съеживается, и его рука ищет меч. Меч лежит на скамье, но Йон не хватает его. Из-за своей брюзгливости он не может даже рассердиться по-настоящему. Я иду вокруг стола и, как будто случайно, натыкаюсь на него, наступаю ему на ногу и даже не замечаю этого. Потом смеюсь с презрением, сначала тихо, потом громче и спрашиваю, не позвать ли их сюда?
— Кого? — удивляется он.
— Твоих людей. Они тоже заслуживают доброго смеха. Пусть посмеются над своим хёвдингом-брюзгой!
Я заставляю его отпрянуть, и от этого он не становится более сговорчивым. До сих пор я говорил, словно про себя, а теперь обращаюсь к нему. Но тут же обрываю себя: