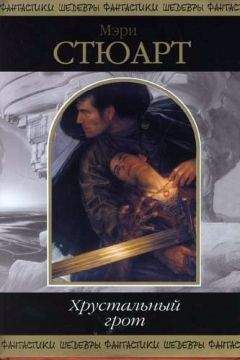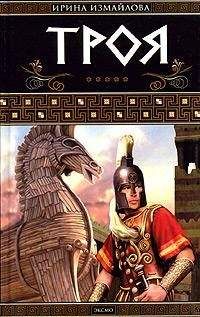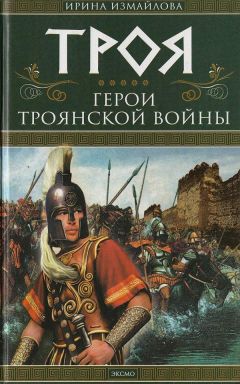Молча подошел Ахилл к богатствам, лежавшим на берегу. Он поднял ларец с драгоценными каменьями и зашвырнул его далеко в море. Затем туда же полетели и другие ларцы, и оружие, и золотые цепи.
Только вздох издали видевшие это воины: в морскую пучину были брошены богатства, равные которым имели не многие из земных царей.
Нарушив молчание, Ахилл повернулся к рабыням:
— Ступайте, вы свободны, — сказал он им, — вы мне не нужны. — И продолжил, обращаясь теперь к распростертым ниц послам Агамемнона: — Видите — мне ничего не нужно от вашего царя. Лучшим подарком было бы, если б вы привезли его змеиное сердце. Но поскольку вы мне его не привезли...
По-прежнему держа меч в руках, он приблизился к испуганным послам. Наверно, они уже готовились к неминуемой смерти.
Однако убивать их он не стал. Он сказал, как и прежде, негромко, но страшны были эти его слова, прозвучавшие при всеобщем молчании.
— Поскольку вы не привезли мне его сердце, — сказал он, — что ж, пускай его сожрет Цербер в Аиде, — а так оно и будет, пускай он знает это! Плывите к нему и передайте мои слова.
И передайте ему, что даже в Аиде, после того, как Цербер сожрет его зловонное сердце, ему все равно не будет покоя, ибо я и там найду его.
И еще передайте ему: пусть он, пока еще не очутился в Аиде, не смеет молиться тем же богам, что и я, ибо отныне боги у нас с ним разные...
С ужасом слушали мы все эти страшные для любого ахейца слова.
Ахилл продолжал:
— И еще передайте вашему царю... Это, конечно, малость от того, что уготовано ему за его вероломство, но пускай он знает и это... Отныне одни лишь неудачи будут сопутствовать ему в этой войне, ибо подлый трус и клятвопреступник не заслуживает побед.
Не знаю, сколь скоро это произойдет, но троянцы сокрушат его, ибо, пускай знает он, отворотились от него боги, чтобы не осквернять себя при виде его.
Да, только поражения его ждут... Я же буду оставаться здесь, чтобы стать свидетелем его позора, но пусть он знает — даже если троянцы начнут жечь наши корабли, ни я, ни Патрокл, ни мои храбрые мирмидонцы, никто из нас не вступит в бой.
Вы слышали меня? Хорошо ли вы запомнили все мои слова?
Послы, приподняв головы, робко закивали, все еще со страхом поглядывая на его обнаженный меч и все еще не до конца веря, что останутся живы.
— А если слышали и запомнили, — сказал Ахилл, — то плывите сейчас к вашему царю и передайте ему слово в слово все, что я сказал. Вы поняли меня?
Ответом послов было блеяние, ибо языки пока еще не повиновались им.
— Тогда ступайте в свою лодку, — приказал им Ахилл, — и благодарите Зевса за то, что он нынче сохранил ваши никому не нужные жизни.
Когда дрожащие послы Агамемнона забирались в лодку, вид у них был такой, словно они миг назад уже плыли по Стиксу в Аид, но по какому-то недосмотру перевозчика Харона сумели вернуться назад.
Ах, как спустя миг заработали веслами их гребцы, стремясь поскорей унестись от этого страшного для них берега.
Ахилл же, пока они плыли к кораблю Агамемнона, стоявшему вдали, совершил еще вот что. Он велел привести к нему троянца, накануне взятого в плен. Судя по дорогим доспехам, троянец был знатного рода, возможно, даже царского рода, мирмидонцы, я знаю, собирались потребовать у Трои выкуп за него в десять талантов, не менее. Но когда того привели, Ахилл мечом разрубил его путы и сказал:
— Я дарую тебе свободу. Возвращайся в свою Трою и скажи там Гектору и царю Приаму, что ни Ахилл, ни его мирмидонцы больше не будут воевать на стороне презренного Агамемнона. Отныне это не моя война. Даже если троянцы откинут данайцев к морю и станут жечь их корабли, я не выйду, чтобы их остановить. Больше я не возьму в руки меч, так им и скажи. В знак того возьми этот меч и передай его храброму Гектору, ибо подлый слизняк, подобный царю Агамемнону, недостоин того, чтобы ему служил этот никогда ничем себя не запятнавший меч. Ступай же!
Мы смотрели вслед удалявшемуся троянцу, и после страшных слов Ахилла никто в наших рядах уже не верил в успех этой войны. Дорого же обещала обойтись нам всем похоть Агамемнона! Сколько еще костров замыслила сложить на небе Ночь-Нюкта в эти самые часы?!..
Ахилл дождался, пока троянец не скрылся за городскими воротами, затем он ушел в свой шатер, и лишь тогда мы услышали его громкие рыдания.
Он рыдал, упрекая всемогущих богов в том, что они допустили все это. И этими своими упреками, обращенными к богам, он, конечно же, навлекал на себя новые беды...
Ибо...
Ибо никогда ни в чем не упрекай богов, Профоенор! Не прощают этого боги!
ВЕЧЕР
О том, что не следует роптать. — О Золотом веке. — О том, что Профоенор — вовсе не Профоенор. — О том, что закон гостеприимства важнее всего прочего.
— ...Ибо — ни в чем не упрекай всемогущих богов, Профоенор, — повторил Клеон. — Карая нас, они в то же время даруют нам испытания. Да, да, именно даруют! — и затем взирают со своего Олимпа, как мы распорядимся этим их даром. Отвергли его — и, значит, не видать нам более их благорасположения!
Увы, наши боги, как и люди, равно не терпят как упреков, так и неблагодарности! Подумай, Профоенор: если б в самой сердцевине сегодняшней жары мы вдруг возроптали и упрекнули наших богов за посланные нам испытания, — быть может, они, видя, что мы недостойны их испытаний и затаив на нас обиду, отняли бы у нас и этот благодатный, чудесный вечер, когда наш дух, наполненный прохладою, окрылен и сладостно невесом!
Нет, никогда не ропщи, осязая на себе даже самые тяжкие из посланных ими испытаний, Профоенор!
Помнишь, я упоминал о евреях, крохотном народце, пришедшем, говорят, из великого Египта, о народце, знающем лишь одного бога? При всем скудоумии этого народца, не столь уж глупо их верование. Оскорбить своим ропотом единственного бога — это уж непрощаемо! Ни один из них никогда не отважится на такое! То ли дело у нас: один бог разгневается, другой, глядишь, простит. Мы — как дети при семи няньках, они же — как дитя при едином суровом родителе: он и разгневается, он же и простит.
Видится мне, Профоенор... Нет, мы этого не застанем. И дети наши не застанут, и дети наших детей, и далекие правнуки наших правнуков, — но будет такое, будет! Когда-то и мы уверуем в единого бога, чтобы лишь он один и миловал нас, и карал. И явится самый безропотный сын его, и претерпит какие-нибудь самые страшные муки, и не возропщет!.. И тогда, умилившись, обратит его бог-отец благодать свою на всех других своих детей, видя, что не так уж безнадежен род человеческий.