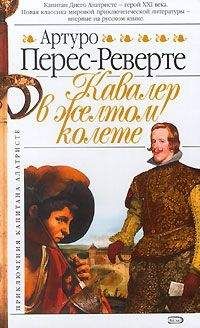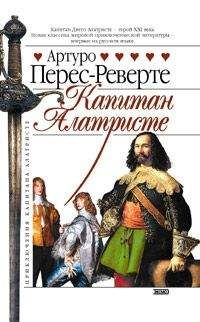Кеведо водрузил очки на нос, и от саркастической ухмылки усы его встопорщились:
— Узнаю манеру Оливареса… Это очень похоже на него: если выгорит — почестей не ждите, а провалитесь — не сносить вам головы. — Он сделал два крупных глотка, отставил стакан, задумчиво оглядел его и добавил сокрушенно: — Иногда я начинаю жалеть, что втравил вас в это, капитан.
— Меня никто не принуждал, — безо всякого выражения ответил Алатристе, не отводя глаз от дальнего берега, на котором раскинулась Триана.
Стоический тон капитана заставил графа улыбнуться.
— Рассказывают, — вполголоса и явно не просто так проговорил он, — будто наш Четвертый Филипп входит в малейшие подробности вашего предприятия. Он в восторге от того, какую рожу скорчит старый Медина-Сидония, когда до него дойдут новости… Тем более что золото есть золото, и его католическое величество нуждается в нем не меньше, чем мы, грешные.
— Больше, — вздохнул Кеведо. Гуадальмедина облокотился о стол и еще больше понизил голос:
— Вчера ночью, при обстоятельствах, о коих распространяться не стану, государь изволил осведомиться, кто руководит всем предприятием… — Он помолчал, давая нам возможность осознать и прочувствовать сказанное. — Спрошено было у твоего друга, Алатристе. Понимаешь? И тот назвал твое имя.
— Воображаю, каких турусов на колесах вы там нагородили… — сказал Кеведо.
Граф, задетый этим «воображаю», воззрился на поэта:
— Никаких не турусов! Чистую правду!
— И что же ответил великий Филипп?
— Как человек молодой и любитель острых ощущений, он выказал живейший интерес. Вплоть до того, что собрался инкогнито отправиться к месту действия, дабы утолить свое любопытство… Но Оливарес поднял крик до небес.
За столом повисло неловкое молчание.
— Ну вот, — высказался наконец дон Франсиско, — только помазанника божьего там и не хватало.
Гуадальмедина вертел в руках стакан:
— Так или иначе, в случае успеха никого из нас не забудут.
Вспомнив что-то, он сунул руку в карман и вытащил оттуда вчетверо сложенный лист бумаги, скрепленный двумя печатями — Верховного Суда и командующего галерным флотом.
— Совсем забыл, — сказал граф, протягивая документ капитану. — Держи пропуск. С ним тебе разрешат доплыть вниз по реке до Санлукара… Сам понимаешь — как только окажешься на месте, бумагу немедля сожжешь. И уж с той минуты, если спросят, что ты там забыл, отговариваться будешь сам. — Он улыбнулся и погладил бородку. — Бреши, что в голову придет.
— Поглядим, как покажет себя Ольямедилья, — заметил Кеведо.
— В любом случае, ему незачем лезть на абордаж. Он там нужен для того лишь, чтобы оприходовать золото. А ты, Алатристе, будешь заботиться о его здоровье.
— Сделаем, что можно.
— Уж постарайся.
Капитан заложил бумагу за ленту шляпы. Он был по обыкновению холоден и невозмутим, зато я весь изъерзался на своем табурете — еще бы: столь густейшим образом поминались здесь августейшие и высокие особы, что простому мочилеро мудрено было сохранить спокойствие.
— Судовладелец, конечно, начнет протестовать, — продолжал Альваро де ла Марка. — Медина-Сидония придет в неописуемую ярость. Однако никто из тех, кто посвящен в интригу, пикнуть не осмелится… С фламандцами дело обстоит иначе. Их жалобам будет дан законный ход — иными словами, начнется классическая, душу выматывающая бюрократическая волокита и канитель. И потому необходимо, чтобы все это напоминало нападение пиратов… — С лукавой улыбкой он поднес к губам стакан. — Сам понимаешь, никто не будет требовать найти золото, которого вроде бы и не существует.
— Имейте в виду, Диего, — добавил Кеведо, — если попадетесь, все умоют руки.
— Включая нас с доном Франсиско, — отчеканил без околичностей граф.
— Вот именно. Ignoramusatqueignorabimus, что в вольном переводе с латыни значит: «Слыхом не слыхали».
Оба они выжидательно уставились на капитана, но он, по-прежнему не сводя глаз с дальнего берега и раскинувшейся на нем Трианы, лишь коротко кивнул, не прибавив к этому ни слова.
— И в этом случае, — продолжал Гуадальмедина, — советую смотреть в оба, ибо платить за разбитые горшки придется тебе и никому иному.
— Если попадетесь, — добавил поэт.
— А потому, — завершил свою речь граф, — надо исхитриться, чтобы никто из твоих не попался… — Он быстро глянул на меня и повторил: — Никто.
— Сие означает, — подвел итог дон Франсиско, чей острый разум неизменно побуждал его изъясняться как можно более четко и точно, — что у вас, Диего, два пути: победить или умереть, рта не раскрыв. Ясно?
Да уж куда ясней. Любую хмарь предпочтешь такой ясности.
Простившись с нашими друзьями, мы с капитаном двинулись вниз по Ареналю, покуда не дошли до плавучего моста, у которого уже поджидал нас явившийся, как всегда, без опоздания счетовод Ольямедилья. Он зашагал рядом, не размыкая губ, — постный, чопорный, сухой и унылый. Вы не поверите, но покуда мы шли через мост к стенам замка инквизиции, тотчас всколыхнувшего в моей душе самые мрачные воспоминания, освещали нас косые лучи заходящего солнца. Мы были готовы пуститься в путь: счетовод надел черный кафтан, просторный и мешковатый, Алатристе по обыкновению был в плаще и шляпе, со шпагой и кинжалом, а я волок за спиной огромный баул, предусмотрительно набитый всякой всячиной: съестные припасы, два шерстяных одеяла, бурдючок вина, два пистолета, собственный мой кинжал — защитные кольца были уже починены в лавке на улице Бискайнос, — порох и пули, шпага альгвазила Санчеса, нагрудник из буйволовой кожи для моего хозяина и другой, полегче, новый, из хорошо выделанной толстой замши, купленный для меня за двадцать эскудо на улице Франкос. Сборным пунктом определили постоялый двор «У Нефа», куда мы и пришли одновременно с наступлением темноты, оставив за спиной плавучий мост вместе со множеством баркасов, галер и прочих судов, ошвартованных вдоль всего берега. В Триане на каждом углу размещались таверны, кабачки, дешевые ночлежки, всякого рода притоны, так что появление таких подозрительных и к тому же вооруженных личностей никого не удивило бы. Заведение оказалось довольно смрадным: патио под открытым небом служило таверной, над которой в дождливую погоду натягивали парусиновый навес. Сидевшие там люди все как один были в плащах и шляпах, что объяснялось как вечерней прохладой, так и родом занятий большинства посетителей: здесь принято было прятать лицо, кутаться в плащ, оттопыривавшийся спереди кинжалом, а сзади — кончиком шпаги. Мы втроем заняли стол в углу, заказали поесть и выпить и с видом величайшего безразличия огляделись по сторонам. Кое-кто из наших уже прибыл: за столом по соседству я увидел Хинесильо-Красавчика без гитары, зато с длиннющей шпагой у пояса, и Гусмана Родригеса — оба сидели, как сказал поэт, «усы плащом прикрыв, а брови — шляпой»; а вскорости пожаловал и Сарамаго-Португалец: он пришел один, сел и при свече погрузился в чтение. За ним появился маленький, жилистый и молчаливый Себастьян Копонс, который, ни на кого не глядя, спросил вина. Все делали вид, что друг с другом не знакомы. Постепенно подтягивались и остальные — входили вперевалку парами или поодиночке, позванивая оружием, сторожко озирались, молча, не окликая знакомых и ни с кем не здороваясь, усаживались кто где. Потом взорам нашим предстали разом трое — Хуан Каюк, кум его Сангонера и мулат Кампусано, которому благоприятные отзывы, полученные капитаном через графа Гуадальмедину, позволили покинуть убежище в церкви Спасителя. Уж на что хозяин таверны был человек ко всему привычный, но даже он малость обеспокоился при виде такого наплыва людей определенного сорта, однако Алатристе рассеял его подозрения несколькими серебряными монетами, благодаря коим самый любознательный из кабатчиков делается слепым, глухим и немым, тем паче что капитан присовокупил к деньгам дружеский совет не болтать, ибо перерезанную глотку ни за какие деньги не заштопаешь. Еще через полчаса все были в сборе. К моему удивлению — Алатристе ничего не говорил мне об этом — последним пришел не кто иной, как Бартоло Типун: в берете, надвинутом на густые сросшиеся брови, с широченной улыбкой, открывавшей темные глубины щербатой пасти. Он подмигнул капитану и стал расхаживать под арками взад-вперед, стараясь не привлекать к себе внимания: с тем же успехом мог бы остаться незамеченным бурый медведь на поминальной мессе. И, хотя хозяин мой ни разу словом не обмолвился о причинах, побудивших его предпринять шаги к освобождению галерника, которого, между нами говоря, к удальцам можно было причислить лишь из-за наличия у него уда, я полагаю, что руководствовался капитан Алатристе скорее чувствами — если, конечно, допустить, что таковые у него имелись, — нежели здравым смыслом, ибо он с легкостью мог бы пригласить в нашу компанию кого-нибудь почище Ну, как бы то ни было, примкнул к нам преисполненный благодарности Бартоло Типун. И, видит Бог, ему было за что благодарить — капитан избавил его от приятной обязанности шесть лет сидеть на цепи да под свист бича распугивать сардин тяжеленным веслом.