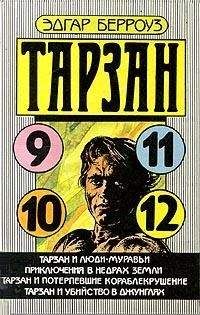Кабак Черного Тома был, по сути, захудалым притоном, где самые бедные матросы курили скверный табак, пили никуда не годный джин и бренчали на надтреснутых гитарах и банджо. Хозяин его был местным политическим воротилой и главой шайки хулиганов, которые называли себя «ягнятами». По слухам, мэр города и политические заправилы Сан-Франциско побаивались этой шайки и не брезговали пользоваться ее услугами. Помню, как-то перед выборами в кабак привели очень элегантно одетого слепца, который долго о чем-то совещался с хозяином. Эта пара выглядела настолько странно, а почтительность, с которой взирали на нее посетители кабака, поспешившие отойти как можно дальше, показалась мне столь загадочной, что я попросил объяснений у своего соседа. Он сообщил мне, что слепец — видный политический деятель города, которого некоторые называют «Королем Сан-Франциско», хотя большинство предпочитает кличку, которую ему дали в китайском квартале, — «Слепой Белый Дьявол».
— Наверное, ему очень понадобились «ягнята», — прибавил мой собеседник.
Я сделал набросок «Слепого Белого Дьявола», стоящего у буфетной стойки, а на следующей странице моего альбома спустя всего несколько часов появился рисунок, изображавший, как Черный Том угрожает толпе своих клиентов огромным револьвером системы «Смит и Вессон». Вот с какими контрастами приходилось мне сталкиваться в большом зале этого кабака.
И все это время в малом зале заседал неофициальный клуб Южных Морей, где разговоры шли о жизни, совершенно непохожей на ту, которая нас окружала. Там собирались старые шкиперы, торговцы Южных Морей, коки, помощники капитанов. По большей части это были прекрасные люди, испытавшие благотворное влияние кроткого и жизнерадостного народа, среди которого им довелось жить. Кроме того, они знали много интересного, и не из книг, а по личному опыту, так что я готов был часами сидеть и слушать их увлекательные рассказы. В них всех была какая-то поэтическая струнка. Ведь всякий бродяга-моряк, если только он не отпетый негодяй, кажется младшим братом поэта. Даже бессвязные фразы Джонсона вроде: «Оно так, канаки люди ничего, неплохие» или: «Черт его знает, что за остров, — горы прямо до самой воды. Жить бы мне на нем да жить» — таили какую-то внутреннюю музыку, а многие из его приятелей были просто изумительными рассказчиками. Их длинные повествования, неожиданно меткие описания людей, пейзажей постепенно создавали в моем мозгу четкий образ южных островов и жизни на этих островах: отвесные берега, острые горные пики, густая тень лепящихся по склонам лесов, неумолчный рев прибоя на рифе и вечное мирное спокойствие лагуны; необычайно яркие солнце, луна и звезды, красивые к благородные люди, всегда готовые приветствовать чужестранца, всегда готовые предоставить ему свой кров и свою лодку, — жизнь, льющаяся словно музыка, и долгие вечера, оживляемые звуками мелодичных песен.
Для того чтобы понять тоску по этому миру, которая все чаще овладевала мной, надо потерпеть неудачу в артистической карьере, надо голодать на улицах Парижа, надо стать партнером дельца вроде Пинкертона. Пестрый, шумный Сан-Франциско, контора, где мой друг Джим метался ежедневно с десяти до четырех, как заключенный в клетку л, ев, а иногда даже и надежда на возвращение в Париж тускнели перед этой мечтой. Я знаю, что многие на моем месте бросили бы все и отправились туда, куда влекло их воображение, но я человек по натуре вялый и тяжелый на подъем, — чтобы заставить меня покинуть привычные пути, чтобы послать меня в плавание среди райских островов, нужен был какой-то внешний толчок. Только сама судьба могла подобрать для него подходящее орудие, и, хоть я не знал этого, оно уже было зажато в ее железной руке.
Как-то раз я сидел в углу сверкавшего позолотой обширного зала кафе, где один из местных талантов угощал меня завтраком и этюдами обнаженной натуры. Вдруг раздался топот ног, гул голосов, двери широко распахнулись, и в зал ввалилась довольно большая толпа людей. Вошедшие (по большей части моряки, и все очень возбужденные) окружали группу из нескольких человек, как дети окружают бродячих кукольников, следуя за ними из одного двора в другой. Кругом все зашептали, что это капитан Трент и его матросы, уцелевшие после крушения английского брига «Летящий по ветру», которых английский военный корабль подобрал на острове Мидуэй, — в Сан-Франциско они прибыли сегодня утром и пришли сюда подкрепиться после того, как сделали соответствующее заявление властям. Векоре мне удалось их рассмотреть. Четыре загорелых моряка со стаканами в руках стояли у стойки, окруженные толпой любопытных, осыпавших их вопросами. Один из них был гаваец — кок, как мне сообщили, — у другого в руках была клетка с канарейкой (птичка то и дело заливалась звонкими трелями), у третьего левая рука была в лубке, и он казался очень бледным, словно недавно перенес тяжелую болезнь, а у капитана — краснолицего, синеглазого силача лет сорока пяти — была забинтована правая рука.
Меня весьма заинтересовало то, что капитан, кок и два матроса вместе гуляют по улицам и заходят в кафе. Поэтому я, как всегда в тех случаях, когда меня что-нибудь интересовало, достал альбом и стал набрасывать портреты четырех спасенных моряков. Толпившиеся вокруг них зрители заметили, чем я занимаюсь, и немного посторонились, так что мне удалось очень внимательно рассмотреть лицо и фигуру капитана Трента, хотя он этого не подозревал.
Виски — развязало капитану язык, и, поощряемый удивленными восклицаниями слушателей, он принялся описывать постигшее их несчастье. До меня долетали только отдельные фразы о том, как он лег «на правый галс», и как «вдруг задуло с северо-северо-запада», и как «тут бриг и сел на мель». Иногда он обращался за подтверждением к кому-нибудь из матросов: «Так оно было, Джек?» — и тот отвечал: «Да, так оно и было, капитан Трент». В конце концов он вызвал особенно горячую симпатию слушателей, заявив: «Черт бы побрал карты, которыми снабжает нас адмиралтейство!» Слушатели закивали головами, раздались возгласы одобрения, и я понял, что все присутствующие считают капитана Трента первоклассным моряком и замечательным человеком. Тут я закончил рисовать эту четверку, а также канарейку (все они; особенно канарейка, получились очень похожими), закрыл альбом и, никем не замеченный, вышел из кафе.
Мне тогда и в голову не приходило, что я покинул первую сцену первого акта драмы моей жизни, однако все виденное мной, особенно лицо капитана, довольно долго сохранялось в моей памяти. Я не считаю себя провидцем, но, во всяком случае, я человек наблюдательный и всегда сумею подметить ужас на лице человека. Капитан Трент, командовавший английским бригом «Летящий по ветру», был очень красноречив, находчив, громогласен, но в его синих глазах, в выражении его лица я увидел мучительный страх. Боялся ли он, что его лишат права водить корабли? Нет, от этого его рука не дрожала бы так, когда он брал стакан с виски. Может быть, он еще не оправился после пережитой катастрофы и потери своего корабля? Один из моих друзей, оставшийся целым и невредимым после крушения поезда, в котором он ехал, тем не менее несколько месяцев спустя еще испуганно вздрагивал при малейшем шуме. И я пытался убедить себя, что Трент испытывает то же самое, хотя капитан «Летящего по ветру» отнюдь не казался слабонервным человеком.